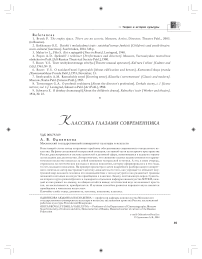Классика глазами современника
Автор: Одиянкова Людмила Васильевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (60), 2014 года.
Бесплатный доступ
В настоящей статье автор затрагивает проблему обесценивания современного театрального искусства. на фоне сегодняшней театральной ситуации, составной части культурного пространства России, рассматривается система ценностей в духовной сфере, изменившаяся в худшую сторону за последние два десятилетия. Автор отмечает, что снижение планки художественности в драматическом искусстве повлекло за собой изменение театральной эстетики. А это, в свою очередь, отразилось на эстетических взглядах и вкусах поколения, которое сформировалось в эти годы, то есть молодого поколения. на примере просмотра и затем подробного разбора одного конкретного спектакля автор выстраивает цепочку доказательств того, как упрощает и обедняет внутренний мир молодого человека его взаимодействие с поп-культурой и как раздвигает границы познаний и взглядов на искусство приобщение к классике. Задачу, поставленную перед студентами второго курса режиссёрского и сценарного отделения кафедры киноискусства МГУКИ, каждый из них решает по-своему, но общим остаётся вывод: эстетический вкус не возникает просто так, он воспитывается, приобретается. И лучшим способом развития хорошего вкуса является приобщение к «высокому искусству».
Театр, духовность, эстетика, поколение, классика
Короткий адрес: https://sciup.org/14489802
IDR: 14489802 | УДК: 008:792.09
Текст научной статьи Классика глазами современника
Сегодня о театре говорят много и страстно, и не потому, что на сценах происходят заметные творческие события. Обсуждаются любопытные театральные сюжеты, возникающие из громких конфликтов и скандальных постановок, в которых мелькают знакомые фамилии артистов и режиссёров. Интерес зрителей к театру подогревается спорами о том, каким должен быть современный театр. Для кого-то современность выражается набором средств, с помощью которых можно эпатировать зрителей и тем самым возбуждать интерес к постановкам. К ним относится то, что в жизни называется грязным, пошлым, бесстыдно откровенным и от чего многие люди брезгливо отворачиваются. А в театре это прижилось. На сцене теперь можно увидеть всё, что хочешь, и услышать всё, что хочешь. Слово «всё» в театральном контексте вмещает в себя, прежде всего, сомнительные тексты, мат, вседозволенность поведения на сцене и непрофессионализм.
Кому приходило в голову применить к театру пословицу «Запретный плод сладок»? Да никогда и никому. Потому что совать свой нос, куда не тебя просят, считалось неприличным делом. И заглядывать в замочную скважину — тоже не самое лучшее за- нятие. Сегодня об этом забыли. Почему?
Если оглянуться назад, можно воспроизвести картину разрушения театра. В 1990-е годы, когда громоздкий российский театральный «корабль» замедлил своё движение, реагируя на общественные и политические волнения и происходящие изменения во всех сферах жизни, кому-то показалось такое поведение театра недопустимым. В один миг объявились спасатели. Они объявили театр умирающим, разлагающимся организмом и предложили жёсткий курс на его оздоровление. Для начала решено было «корабль» раскачать, чтобы он окончательно завалился на бок и дал трещины, сквозь которые в него хлынет «новая влага». Процесс разрушения пошёл. Разрушать — не строить. Затрещали театральные традиции — самое ценное, что до сих пор сохранялось в русском театре, под сомнение попали учения и размышления о театре великих деятелей культуры, посыпались предложения перекроить театральную школу.
Громкие слова о спасении театрального искусства имели разные смыслы. Опасным, на мой взгляд, был тот, в котором отрицалась художественность в пользу освещения в постановках сиюминутных событий и явлений. Вот, что оживит театр, говорили но- вые драматурги, вот, что должно укрепиться, как материал, отражающий жизнь такой, какая она есть в действительности, без всяких прикрас. А то, что вскоре эту драматургию окрестили «чернухой», их не смущало.
На кого рассчитывали новаторы? Конечно, на молодёжь. Девочки и мальчики устремились на спектакли, смотрели на сцену и видели себя и своих близких, причём такими, как в жизни, совсем «без прикрас». Слышали, как со сцены в зал текла настоящая уличная речь, видели, как в сценическом варианте мог действовать человек, обнажённый во всех смыслах. Они понимали, что в новом театре не пренебрегают грязной бранью и сексуальной распущенностью. Свобода! Если в недалёкие времена это считалось чуть ли не глумлением над человеком, теперь оказалось нормой. Эмоционально у молодых зрителей складывалось отношение к искусству театра как к месту отдыха, тусовки, «развлекаловки», где нет границ между приличным и недозволенным.
Противопоставлять своё мнение волне «свободного слова», смывающей всё на своём пути, тогда было наивно и опасно. Кто осмеливался это сделать, тот рисковал быть осмеянным и «распятым». В той ситуации театральное сообщество думающих интеллигентных людей замолчало и ушло в тень. Становлению «нового театра» никто не мешал, и за короткий срок ему удалось привить сомнительный вкус целому поколению.
Мои размышления не подтверждаются никакими исследованиями, я на них не ссылаюсь. Исхожу только из собственных наблюдений и опыта работы. На занятиях по предмету «Основы актёрского мастерства», который я веду на кафедре киноискусства МГУКИ, я общаюсь с вчерашними выпускниками средней школы — семнадцати- и восемнадцатилетними гуманитариями, которые выбрали для себя профессии — режиссёр и сценарист кино. Я вижу перед собой продвинутую часть молодых людей, тех, кто по роду своей профессии априори считает- ся носителями культуры, и от них по праву ожидаю слышать то, что отличает их от безликой массы. Свои размышления попробую сейчас изложить.
Я не теоретик, я — практик театра. Своим профессиональным опытом пытаюсь делиться со студентами не только в аудитории, но и в театре. Вот уже несколько лет продолжается моё творческое сотрудничество с Центральным государственным театральным музеем имени А. А. Бахрушина. В этом театральном сезоне я выпустила спектакль по пьесе А. Стриндберга «Кто сильней», который идёт на камерной сцене музея. С классиком шведской драматургии я решила познакомить своих студентов. Для этого предложила им посмотреть спектакль и потом поделиться своими впечатлениями, изложив их письменно в свободной форме. Студенты откликнулись, и вот что из нашего диалога выяснилось.
Стриндберга не читали. С его творчеством не знакомы. Только благодаря увиденному спектаклю открыли для себя нового автора, классика мировой литературы и драматургии. Кто-то немедленно обратился к Стриндбергу и смело вступил в диалог с режиссёром-интерпретатором данной пьесы. «Когда я прочитал Стриндберга, я и близко не заметил опустошённости и отчаяния у госпожи Х, только презрение её к госпоже Y, гордость, надменность. Она не несчастна, потому что не видит в этом несчастья, не видит своей нарциссической пустоты, принимая своё отражение в зеркале за красоту внутреннего мира. Что это? История об измене? Никак нет. Это история о пустом и бессмысленном существовании. В общем, как мне показалось, пьеса была истолкована односторонне, не была раскрыта суть до конца. Здесь персонажи просты, а замысел сложен. Проблема, затронутая в пьесе, всегда будет актуальна, потому что людские отношения не меняются».
Молодой человек, не читавший прежде Стриндберга, испытал восторг от его произведения, и это чувство заставило его за- глянуть в пьесу так глубоко, что ему показалось, будто его мысли совпали с авторскими.
Об открытии автора говорили по-разному, например: «Одна из особенностей пьесы — это её краткость, лаконичность. В этом произведении один акт, одно место действия, небольшая продолжительность и минимум действующих лиц. Для меня это было в чём-то новизной».
А вот совсем иное мнение. «Что касается сюжета, тут я не могу дать твёрдой оценки ввиду своего характера и вкуса. Мне, любящему динамику, иронию и цинизм в историях, чужда история, сложившаяся на сцене».
Совпадений в пристрастии к лаконизму у пишущих о спектакле мало, но они есть. «Я вообще люблю лаконизм в сюжете. Ещё мне нравится тема зеркала. Здесь она так чисто и просто подана, героини так лаконично разведены, так друг друга уравновешивают, что я, любитель минимализма и симметрии, не мог этого не оценить».
Авторскую особенность в построении пьесы отметила одна вдумчивая студентка, любящая и умеющая искать суть всего, с чем она встречается в жизни. Она пишет: «Стриндберг использовал в пьесе очень интересный приём, который может быть основой для совершенно различных интерпретаций этой истории. В сюжете идёт противостояние между двумя молодыми женщинами, и борьба эта выражается у них по-разному: у одной при помощи слов, у другой при помощи безмолвия. Вот так и получается, что одна из героинь обращает свою речь к молчащему противнику, но это нисколько не мешает тому накалу страстей, который между ними происходит».
Казалось бы, сложный автор, который не так уж широко ставится на российской сцене. Его острые, противоречивые, оригинальные темы до сих пор до конца не раскрыты, поэтому он должен отпугнуть неискушённого читателя. Но нет, простых решений студенты не избирают и пытаются глубоко вникнуть в материал.
«Сначала я не понимал сюжета, мне казалось, что молчащая и говорящая героини — это один человек. Потом я подумал, что в принципе данную пьесу можно воспринимать и в таком виде — две героини — это один человек. В психиатрии, как и в литературе, раздвоение личности объяснено внутренним конфликтом. Мозг слабой и нерешительной личности, пасующей перед проблемами, создаёт вторую личность, более сильную и лишённую условностей, которой любые проблемы по плечу. Новая личность более смела и бесцеремонна. Из-за всего этого более остро звучит вопрос “кто сильней?”»
Когда в 1990-е годы театр переживал тяжёлый период осмысления своего развития, в его недрах возникали и развивались новые течения. Лидеры этих образований заявляли о себе как о театрах, рождённых временем и давно ожидаемых обществом. И тогда «старый» театр, невольно отрекаясь от своего прошлого, согласился называться устаревшим и принять новую эстетику. На театральные подмостки хлынула «новая влага» и вынесла к зрителям всех, кто к этому стремился. Сцену заполнили выскочки, графоманы, исполнители и постановщики-любители. Запретов не было, всё осталось в прошлом. Щедро поощрялись любые инициативы. Пожалуйста, пишите, ставьте, играйте, рисуйте всё, что хотите. Сцена всё стерпит.
Прошло время, и сегодня мы имеем плоды этих преобразований. В культурном пространстве возникла невообразимая пропасть между образованным поколением прошлого века и поколением, рождённым в 1990-е годы и позже. И вряд ли в ближайшее время кому-то удастся эту ситуацию изменить. Разве только фанатам, возвращающим людей в культурное поле.
«Не могу не сказать про ту чудесную атмосферу таинства, что подарил нам дом-музей им. Бахрушина, где проходил спектакль. Фасад, дворик, двери, дверные ручки, коридорчики, мебель, фотографии — всё из прошлого века, как и сама пьеса Стриндберга, оттого они так сочетаются друг с другом и создают единое пространство действия, где нет границы между залом и сценой. Именно в таком едином пространстве действия зритель чувствует себя свидетелем таинства чужих человеческих отношений, именно так создаётся интимный театр».
Ничто не скрылось от глаз художника, ни одна деталь, а всё вместе — музей и спектакль — образовали для автора эссе-отзыва новый увлекательный мир. Понятно, что она была уже подготовлена к восприятию сценического действия.
«Действие на сцене завораживает. Движения, переходы, композиция, расстановка актёров в тот или иной момент продуманы до мелочей. Героини взаимодействовали, отношения текли и развивались, первенство переходило от одной к другой, и всё это было точно склеено с языком тела, языком цвета, царившего на сцене». «Кто же из них сильней? Авторы не дают нам ответа. Наверное, правильно было бы сказать, никто не сильней. Никто до конца не счастлив».
К такому выводу пришла эта студентка, и совсем к иному — один из её сокурсников. «На чьей стороне правда, для меня остаётся загадкой. И кто сильней — тоже. По-моему, обе героини сильны».
Зачем люди ходят в театр? Наверное, каждый — за своим.
«Я ищу в театре то, что отзовётся пони- манием и сопереживанием где-то внутри меня, в районе солнечного сплетения. Говорят, именно там обитает душа. Чтобы я и происходящее на сцене вдруг оказались “на одной волне”, необходимы два условия. Во-первых, нужно верить тому, кого вижу и слышу. Во-вторых, спектакль должен заставить меня задуматься о чём-то важном и существенном», — пишет один.
И тут же другой: «Что мне дал спектакль? Мысль о том, что нужно жить так, как хочется тебе. В любом случае это твоя история. Главное помнить, что в любой ситуации сильнее тот, кто по-настоящему живёт».
Я возвращаюсь к тому, с чего начинала писать, и думаю о современном поколении молодых, которым выпало жить в смутные времена. Времена не выбирают, да. Выбирают путь, по которому надо идти по жизни. И судя по размышлениям студентов, не всё для них, а значит, и для нас и для будущего, потеряно. Несмотря на все старания «реформаторов», в молодых людях сохраняется тяга и способность к восприятию «классического» театра. То есть того подлинного драматического искусства, которое не занимается «выворачиванием» реальности наизнанку, дешёвыми трюками и заигрыванием со зрителем, а посвящено исследованию эмоций, тайн человеческой души. То есть тем, чем и должно заниматься ИСКУССТВО.
Список литературы Классика глазами современника
- Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. Москва, 2004.
- Лебедина Л. Кто убил Чехова?//Современная драматургия. 2001. № 3.
- Шендерова А. Драма времён Интернета и мобильника//Итоги. 2003. № 14. С. 78.