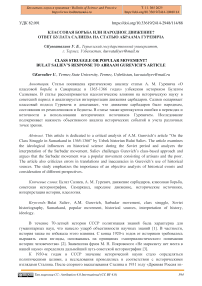Классовая борьба или народное движение? Ответ Булата Салиева на статью Абраама Гуревича
Автор: Кувваталиев У.Б.
Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki
Рубрика: Социальные и гуманитарные науки
Статья в выпуске: 5 т.11, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена критическому анализу статьи А. М. Гуревича «О классовой борьбе в Самарканде в 1365-1366 годах» узбекским историком Булатом Салиевым. В статье рассматриваются идеологические влияния на историческую науку в советский период и анализируется интерпретация движения сарбадаров. Салиев оспаривает классовый подход Гуревича и доказывает, что движение сарбадаров было народным, состоявшим из ремесленников и бедноты. В статье также критикуются ошибки в переводах и неточности в использовании исторических источников Гуревичем. Исследование подчеркивает важность объективного анализа исторических событий и учета различных точек зрения.
Булат Салиев, А. М. Гуревич, движение сарбадаров, классовая борьба, советская историография, Самарканд, народное движение, исторические источники, интерпретация истории, идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/14132473
IDR: 14132473 | УДК: 82.091 | DOI: 10.33619/2414-2948/114/88
Текст научной статьи Классовая борьба или народное движение? Ответ Булата Салиева на статью Абраама Гуревича
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice
УДК 82.091
В течение 70-летней истории СССР политизация знаний была характерна для гуманитарных наук, что нанесло ущерб объективности научных знаний [1]. В частности, история также не избежала этого влияния. С конца 1920-х годов от историков требовалось выражать свои взгляды, основываясь на принципах «материалистического понимания истории человечества» [2]. Знаменитая фраза М. Н. Покровского «Не марксисту нет места в нашей науке» определила дальнейший путь советской историографии [3].
К 1930-м годам в СССР значение исторической науки стало определяться политическими целями, а исследования проводились в соответствии с историческими взглядами Сталина. После спорного высказывания Сталина в 1931 году «Древняя Россия из-
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №5 2025 за своей отсталости постоянно подвергалась ударам…» начал формироваться вывод, что история России состояла только из кризисов и отсталости [4]. Эти необъективные взгляды Сталина не основывались на научном анализе, а служили лишь политическим интересам [5].
Одним из советских ученых, целью которого было переписать историю Узбекистана на идеологической основе, был Абрам Гуревич. Абрам Гуревич – советский историк, один из ученых, работавших в Советском Союзе в 30-е годы XX века. Его деятельность была тесно связана с идеологической политикой Советского государства. В начале 1930-х годов Гуревич работал в престижной московской газете «Правда», которая была официальным изданием Коммунистической партии Советского Союза и играла важную роль в формировании политических взглядов в стране. Он также занимался научной и публицистической деятельностью на территории Украины. Книга Гуревича «Возникновение и развитие Коминтерна», опубликованная в 1931 г в Харькове, принесла ему большие проблемы [6].
Идеи, выдвинутые в книге, были признаны противоречащими господствующей идеологии, и Гуревич получил партийный выговор. Такой выговор в то время считался серьезным политическим шагом, который мог серьезно повлиять на карьеру и свободу человека. В результате Абрам Гуревич был сослан в Среднюю Азию, в частности в Ташкент [7].
Ссылка в Советском Союзе была видом наказания, применяемым к лицам, допустившим политическое несогласие или идеологические ошибки. После ссылки в Ташкент Гуревич был вынужден уделять еще больше внимания идеям классиков марксизма в своей научной деятельности. Он также приступил к переписыванию истории Узбекистана на полностью идеологической основе, что вызвало недовольство местных историков, таких как Булат Салиев. Местные историки видели в подходе Гуревича такие недостатки, как отрицание национальной идентичности, адаптация истории к политическим целям и недостаточное внимание к местным источникам.
Судьба Абрама Гуревича ясно показывает политизацию исторической науки и усиление идеологического контроля в Советском Союзе. Его жизнь и деятельность служат примером того, насколько была ограничена академическая свобода в то время и к каким последствиям могло привести любое идеологическое отклонение. Последующая деятельность Гуревича, в частности попытки переписать историю Узбекистана, и сопротивление, оказанное ему местными историками, раскрывают сложные и противоречивые аспекты подхода к местной истории из центра.
В 1936 г Булат Салиев опубликовал в журнале “Литературный Узбекистан” статью, посвященную критическому анализу работы А. М. Гуревича «О классовой борьбе в Самарканде в 1365-1366 годах». Он особо отмечает данное Гуревичем определение движения сарбадоров и категорически с ним не согласен. По его мнению, Гуревич представляет движение сарбадоров как акцию, совершенную против народа богатыми и аристократическими слоями, что, по утверждению автора, является искажением исторических фактов [8].
Обосновывая свою позицию, опираясь на такие авторитетные исторические источники, как «Зафар-наме», «Равзат ас-сафа» и «Бахру-л-асрар», он указывает на ошибки в переводах, допущенные Гуревичем, и подчеркивает, что эти ошибки негативно сказываются на всей его исследовательской работе. Автор утверждает, что движение сарбадоров было, прежде всего, массовым народным восстанием, поднятым простыми людьми, ремесленниками и бедными слоями населения против феодального гнета. В статье критикуется отсутствие объективности и беспристрастности в подходе Гуревича к историческим источникам. Основная цель работы историка состоит в том, чтобы разоблачить неверные толкования
Гуревича и показать истинную сущность движения сарбадоров как народной борьбы за свободу и справедливость. Описывая события 1365-1366 годов, автор подчеркивает важный момент: именно простые люди во главе с Мавланзаде Самарканди, в тяжелое время, когда Амир Темур и Хусейн оставили Самарканд без защиты, взяли на себя оборону города, проявив мужество и решительность, заставив войска Ильяса Ходжи отступить. После этого сарбадоры, представители народа, захватили власть в городе. Даже когда лидеры сарбадоров были казнены, жизнь Мавланзаде Самарканди была сохранена [9].
Ученый критикует Гуревича за то, что он приводит в качестве доказательства своей теории тот факт, что Мавланзаде Самарканди происходил из богатой семьи и именно он руководил движением. Историк не согласен с мнением Гуревича, что руководство Мавланзаде автоматически превращает движение сарбадоров в движение богатых и аристократов.
Профессор Салиев ставит под сомнение взгляды Гуревича. Во-первых, он подчеркивает, что в средние века часто встречались случаи, когда народные движения возглавлялись представителями высших слоев общества, но это не меняло классовый характер этих движений. Во-вторых, опровергая мнение Гуревича, ученый характеризует Хорасанское движение сарбадоров как народное движение, несмотря на то, что его возглавляли дворяне и крупные шейхи. Он задает Гуревичу риторический вопрос: если происхождение лидера определяет классовый характер движения, то почему хорасанские сарбадоры, возглавляемые дворянами, выражали интересы не аристократии, а народа?
В-третьих, исследователь анализирует текст источника «Матла’ ус-са’дайн», в котором говорится, что Мавланзаде обращался не только к богатым, но и ко всему народу. При этом, согласно источнику, богатые молчали, а народ поддерживал Мавланзаде. В статье также говорится, со ссылкой на «Зафар-наме», что к Мавланзаде присоединились «такие же люди», то есть не богатые, а другая часть населения.
Затем историк возражает против толкования Гуревичем слова «мукнат» как «богатство» и приходит к выводу, что сарбадоры были богаты. Автор статьи отмечает, что слово «мукнат» имеет арабское происхождение и означает силу, мощь, необходимую для осуществления какого-либо дела, в том числе и военную силу. Он ссылается на словарь «Гияс-ул-Лугат», в котором это слово также используется в значении «богатство», но подчеркивает, что Мирхонд использовал его в данном контексте в значении военной силы.
Автор исследуемой статьи продолжает доказывать, что слово «мукнат» в исторических источниках всегда используется в значении силы и мощи, особенно военной силы. Он приводит примеры из «Зафар-наме» и «Бахру-л-Асрар», где это слово использовано именно в таком контексте. Ученый подчеркивает, что в «Равзат ус-сафа», поскольку речь идет о военных событиях, слово «мукнат» следует понимать как военную силу.
Историк на протяжении статьи неоднократно обращает внимание на несоответствия в переводах Гуревича, которые в одном случае переводили «мукнат» как «насилие», что ближе к истине, в другом, когда речь шла о сарбадорах, переводили как «богатство», чтобы подтвердить теорию о том, что сарбадоры были богаты.
Затем Солиев критикует Гуревича за неправильное прочтение слова «калави» в выражении об Абубакре, «старейшине квартала сборщиков хлопка». Гуревич прочитал это слово как «кулу», что действительно означает «старейшина квартала», и пришел к выводу, что Абубакр был богатым ремесленником и эксплуататором кустарей. Ученый критикует Гуревича за искажение смысла слов для доказательства своей теории.
В статье отмечается, что Гуревич неправильно понял выражение об Абубакре, «старейшине квартала сборщиков хлопка» [10]. Историк объясняет, что слово «кулу» может
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №5 2025 означать не только старейшину, но и пожилого человека, старца квартала. Поэтому, по мнению автора, выражение следует понимать как «пожилой сборщик хлопка из одного из кварталов». В статье подчеркивается, что понятие «старейшина» обычно выражается словом «раис», и если бы Абубакр действительно был старейшиной квартала, то в оригинале было бы написано «раис махаллаи наддафан». Ученый подчеркивает, что выражение «Абу - Бакр Калави наддаф» следует понимать как «Абубакр, прядильщик и занимавшийся очисткой старого хлопка».
Затем автор обвиняет Абрама Гуревича в обращении к местам, которых нет в «Зафар-наме» и других источниках, для подтверждения своей теории. В частности, ни в одном источнике не упоминается, чтобы сарбадоры облагали народ налогами или чтобы низшие слои города восстали против сарбадоров. По мнению автора, Гуревич намеренно искажает факты и добавляет детали, чтобы подтвердить свою теорию о классовой борьбе в Самарканде.
Историк подчеркивает, что события 1365-1366 годов в Самарканде были не акцией богатых и аристократии против народа, а восстанием ремесленников и низших слоев населения против феодалов и эксплуататоров. Он приводит примеры аналогичных действий в других городах Средней Азии, например, в Самарканде, Герате и Мерве, где низшие слои населения постоянно выступали против правящей элиты.
В статье также упоминается восстание ремесленников и низших слоев населения в Бухаре в 20-х годах XIII века, направленное против бухарского хана Убайдуллы и его эмиров [8]. Булат Солиев цитирует придворного историка Убайдуллы-хана, который утверждает, что «народ Бухары по своему характеру склонен к волнениям и мятежам», что свидетельствует о частых волнениях в городе.
Ученый подчеркивает, что аналогичные восстания ремесленников происходили и в других городах Средней Азии, например, в Ташкенте. Он утверждает, что события 1365 года в Самарканде также были действиями ремесленников и низших слоев городского населения.
Автор анализирует отрывок из «Зафар-наме» Низамиддина Шами о том, что Мавланзаде Самарканди, Хурдак Бухари и Абубакр-наддаф были главами сарбадоров и что вокруг них собрались «такие же люди». Он утверждает, что эти слова ясно показывают, что сарбадоры не были богатыми и аристократами, потому что богатые и аристократы считались не «такими же», а уважаемыми людьми.
Автор также анализирует отрывок из «Зафар-наме» Шарафиддина Али Язди: «На голову группы населения подул ветер гордости, они шагнули за свои пределы ногами храбрости», и содержится мольба: да не позволит Бог бедным и несчастным стать уважаемыми людьми. в статье отмечается, что эти слова четко показывают, из кого состояла группа населения, захватившая власть в Самарканде. В то же время в статье Гуревича обвиняют в том, что он, увлекшись «новыми открытиями», не обратил внимания на эти четкие указания источников и был занят лишь реализацией своей фантазии и поиском цитат, необходимых для этого. Ученый утверждает, что даже из работ Мирхонда и Хондамира можно ясно понять, из кого состоял народ, захвативший власть, но Гуревич исказил их смысл.
Булат Солиев также обращается к источнику «Бахр аль-асрар», который, по его словам, еще более ясно показывает, что это были ремесленники и кустари: Историк считает, что после этой цитаты из «Бахр аль-асрар» не остается места для комментариев. Он утверждает, что группа населения, которую Мирхонд описывает как группу, «обладающую силой и властью», а Шарафиддин Али Язди как группу, «обладающую большей силой и волей», несомненно, состояла из ремесленников и низших слоев городского населения.
В статье описываются события в Самарканде в «Таарих-и Салотин» (История султанов), где, оскорбляя сарбадоров, подчеркивается, что «это дело сделали бедные, голодные, голые и босые». Булат Солиев обвиняет Гуревича в незнании всех источников и даже в недостаточно внимательном прочтении переводов, сделанных его сотрудниками, что, по мнению ученого, привело к его ошибочным выводам.
Автор статьи переходит к рассмотрению происхождения и сущности движения сарбадоров, начавшегося в селе Паштин в Хорасане. Он отмечает, что это движение возглавил Амир Абдурраззак, сын богатого землевладельца Ших-Абуддина Фазлуллы. Сарбадоры убили чиновников хана, изгнали сборщиков налогов и захватили власть. В статье подчеркивается, что участники этого движения выступали со словами: «Мы не можем жить под таким гнетом и насилием, мы уничтожим гнет и тирана, нам лучше положить головы на плаху, чем переживать такую жизнь». Поэтому их стали называть «сарбадарлар», что означает «положившие свои головы на плаху». По мнению историка, движение сарбадоров отражало интересы ремесленников и угнетенной городской бедноты и было борьбой эксплуатируемых трудящихся масс против феодалов и эмиров[11]. Он обращается к Абдурраззаку Самарканди, который в своем произведении «Матла’ ус-са’дайн» писал о сарбадорах как о «самых чистых людях своего времени», которые «добывают хлеб своим непорочным поведением, хорошо относятся к людям, занимаются ремеслами и кустарничеством».
В статье также цитируются слова сарбадоров о том, что они кладут свои головы на плаху, потому что стремятся уничтожить насилие и тиранов или не могут терпеть гнет и насилие. Ученый продолжает анализировать источники, чтобы доказать, что движение сарбадоров было народным движением. Он отмечает, что даже Хондемир называл сарбадором только Абубакра, а «Матла’ ус-са’дайн» отличает Мавланзаде от сарбадоров. В статье подчеркивается, что только Низамиддин Шами называет Мавлана сарбадором. Он утверждает, что из всех источников ясно видно, что действия ремесленников и низших слоев населения против феодалов и эмиров назывались движением сарбадоров.
Автор исследования критикует тех, кто называет богатых и аристократию сарбадорами, и считает, что это искажает значение этого термина. Он также обращается к Ибн Арабшаху, который описывает неспокойное время в Самарканде и упоминает о «даггарах» и «шуттарах», которые были повстанцами и враждовали с Тимуром.
Профессор Солиев утверждает, что Ибн Арабшах описывает именно движение сарбадоров, направленное против правительства Тимура. Он отмечает, что сарбадоры свергли наместников Тимура и нарушили порядок. Он приходит к выводу, что Ибн Арабшах подтверждает, что движение сарбадоров было народным движением, направленным против феодальной власти. В течение статьи автор продолжает доказывать, что движение сарбадоров было народным движением, анализируя терминологию Ибн Арабшаха. Он отмечает, что Ибн Арабшах называет боровшихся против Тимура «даггарами» и «шуттарами» и этими словами обозначает именно сарбадоров.
Автор подчеркивает, что Ибн Арабшах называл хорасанских сарбадоров «даггарами», объясняя слово сарбадор словом «шуттар», что ясно показывает, что самаркандские «даггары» и «шуттары», упомянутые им, были именно сарбадорами. В статье ученый ссылается на Ибн Баттуту, который писал, что в Хорасане и Мавераннахре народные массы, боровшиеся против феодалов и эксплуататоров, назывались сарбадорами, в Ираке - шуттары, а в Магрибе - сакура. Автор статьи утверждает, что все доказательства из источников подтверждают, что сарбадоры в событиях 1365 года в Самарканде были не богатыми, а эксплуатируемыми народными массами. Он критикует Гуревича за то, что он не понял этого и представил события как борьбу низших слоев населения против сарбадоров. Историк также упоминает Бартольда, который считал движение сарбадоров движением рабочих и студентов. Булат Солиев критикует Бартольда за то, что он пришел к такому выводу, потому что Мавланзаде Самарканди был студентом медресе.
Историк продолжает критиковать Гуревича, а также Бартольда и Якубовского за неправильное понимание движения сарбадоров. Он отмечает, что, хотя Бартольд представил Абубакра как рабочего, он признал, что движение было направлено против эмиров. Якубовский же назвал Абубакра ремесленником, но не упомянул об участии низших слоев города. В статье подчеркивается, что Гуревич представил движение сарбадоров как движение богатых и аристократии, а Абубакра - как очень богатого ремесленника. В течение статьи автор обвиняет Гуревича в повторении ошибок, в которых он обвинял других, и говорит, что его главная политическая ошибка состоит в попытке представить народное восстание 1365 года как акцию самаркандской аристократии. Историк утверждает, что восстание 1365 года было народным движением, которое признал даже буржуазный историк Бартольд. Он критикует Гуревича за то, что он оценил это восстание как реакционное и исключил из него основную движущую силу - ремесленников и городскую бедноту. Также он обвиняет Гуревича в грубых ошибках и небрежности в отношении перевода источников и приводит примеры неправильного перевода слов «улаг» и «торкас».
Автор продолжает критиковать Гуревича за неправильный перевод источников. Он приводит примеры неправильного перевода слов «сулук», «куча», «лаи» и других слов и объясняет, как эти неправильные переводы искажают смысл исторических событий.
В статье подчеркивается, что из-за неправильного перевода слова «улаг» Гуревич создал неверное представление о том, как возвращались воины с поля боя. Историк объясняет, что «улаг» означает не осла, а лошадь, и речь идет о седлах и конской сбруе. Автор также критикует Гуревича за неправильный перевод названия местности «лаи», где Тимур и Хусейн потерпели поражение от войск Ильяса Ходжи. Булат Солиев объясняет, что «лаи» — это не глина, а название пойменной местности. Историк обвиняет Гуревича в фальсификации истории Узбекистана и попытке контрабандным путем провести неприемлемые взгляды.
Основной аргумент узбекского профессора состоит в том, что движение сарбадоров в действительности было народным движением, состоявшим из эксплуатируемых ремесленников, крестьян и городской бедноты. Он категорически отвергает интерпретацию Гуревича о том, что это движение было организовано самаркандской аристократией, и раскрывает коренное различие между этими двумя точками зрения.
Ученый тщательно анализирует источники, чтобы выявить ошибки Гуревича. Он изучает значение слов, выявляет неточности в переводах и определяет логические ошибки. Автор статьи также пытается создать исторический контекст, связывая движение сарбадоров с народными восстаниями в других регионах Средней Азии, уточняя особенности этого движения. Это исследование показало, что в работе Гуревича имеется много недостатков. В частности, было выявлено, что Гуревич неправильно истолковывал источники, искажал их смысл и направлял их на определенные политические цели. Профессор Булат Солиев раскрывает важность субъективности и политических влияний в историографии.
Кроме того, статья показывает, что существуют разные подходы к историческим событиям. Она не только доказывает, что движение сарбадоров было народным движением, но и показывает, с какими трудностями столкнулись его участники, насколько важны были их цели и какое влияние оказало это движение на историю Средней Азии.
Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 11. №5 2025
В то же время эта статья имеет важное значение в историографии Узбекистана. Она призывает историков глубже изучать источники, принимать различные точки зрения и обосновывать свои выводы. Статья открывает новые направления в изучении истории Средней Азии и может стать ценным источником для будущих поколений исследователей.
В заключение следует отметить, что эта статья является не только ответом на статью Гуревича, но и важным трудом, раскрывающим сложность исторических исследований, необходимость критического анализа источников и важность понимания прошлого с различных точек зрения.