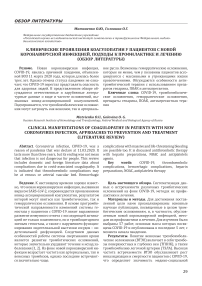Клинические проявления коагулопатии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, подходы к профилактике и лечению (обзор литературы)
Автор: Матвиенко О.Ю., Головина О.Г.
Журнал: Вестник гематологии @bulletin-of-hematology
Рубрика: Обзор литературы
Статья в выпуске: 1 т.21, 2025 года.
Бесплатный доступ
Новая коронавирусная инфекция, COVID-19, явилась причиной пандемии, объявленной ВОЗ 11 марта 2020 года, которая длилась более трех лет. Однако отмена статуса пандемии не означает, что COVID-19 перестал представлять опасность для здоровья людей. В представленном обзоре обсуждаются отечественные и зарубежные литературные данные о виде и частоте осложнений, вызванных ковид-ассоциированной коагулопатией. Подчеркивается, что тромбоэмболические осложнения могут затронуть как венозное, так и артериальное русло. Возможны геморрагические осложнения, которые не менее, чем у половины пациентов ассоциируются с массивными и угрожающими жизни кровотечениями. Обсуждаются особенности антитромботической терапии с использованием препаратов гепарина, ПОАК и антиагрегантов.
Тромбоэмболические осложнения, геморрагические осложнения, препараты гепарина, поак, антиагрегантная терапия
Короткий адрес: https://sciup.org/170209585
IDR: 170209585
Текст обзорной статьи Клинические проявления коагулопатии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, подходы к профилактике и лечению (обзор литературы)
Цель настоящего обзора. Систематизация данных о встречаемости различных тромботических осложнений на фоне COVID-19, методах их профилактики и лечения.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели нами проанализированы основные научные публикации, посвященные в целом тромботическим осложнениям, и, в частности, обусловленным новой коронавирусной инфекцией, методам их профилактики и лечения. Для изучения были выбраны 57 работ, основная масса которых посвящена COVID-19 и опубликована в последние 5 лет, с момента начала пандемии.
Результаты. Понятие венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) включает в себя тромбозы поверхностных и глубоких вен (ТГВНК), а также тромбоэмболию легочной артерии (ТЭЛА). Высокая частота встречаемости ВТЭО обуславливает рост инвалидизации и смертности пациентов с COVID-19, что определяет значимость медико-социальной проблемы, появившейся в связи с новой коронавирусной инфекцией. Частота ВТЭО составляет около 1-2 случаев на 1000 населения в год и повышается независимо от пола с увеличением возраста. При этом в общей популяции ВТЭО чаще встречаются у мужчин, чем у женщин [3–8]. Тромбоз является многофакторным патологическим процессом, который обусловлен взаимодействием различных составляющих как наследственного, так и приобретенного характера. Врожденная предрасположенность к тромбозу носит название наследственной тромбофилии и включает в себя дефицит естественных антикоагулянтов – антитромбина (АТ), протеинов С и S, а также две мутации – G2021A в гене протромбина (фактора II) и G1691A в гене фактора V свёртывания крови (мутация Лейдена) в гомозиготном или гетерозиготном состоянии. Приобретёнными факторами риска развития тромбоза являются: возраст, варикозное расширение вен, метаболический синдром, тяжелые соматические, онкологические и инфекционные заболевания, наличие мутации JAK-2, а также приобретенная тромбофилия, а именно антифосфолипидный синдром (АФС). В качестве триггера тромбообразования могут выступать оперативные вмешательства, иммобилизация, травмы, беременность, обезвоживание, гормональные препараты, в частности эстрогены и др. [9–12]. Новая коронавирусная инфекция также может являться фактором риска развития тромбоза, как и другие инфекционные заболевания, однако исследователи отмечают аномально высокую частоту тромботических осложнений именно на фоне COVID-19. Данные о встречаемости ВТЭО на фоне новой коронавирусной инфекции в различных исследованиях не совпадают. Такая вариабельность частоты венозных тромбозов обусловлена различным объемом выборок для исследований, а также сложностью диагностики ВТЭО у пациентов, находящихся без сознания или на ИВЛ. В связи с этим требуется повышенная настороженность у пациентов, проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии, которым необходимо проводить инструментальные исследования, такие как дуплексное сканирование вен нижних конечностей и сцинтиграфия лёгких для диагностики ВТЭО [13]. Частота ВТЭО значительно повышается у пациентов, госпитализированных в отделения интенсивной терапии, и увеличивается при длительном нахождении в стационаре. Частота встречаемости ТГВНК среди госпитализированных больных, по данным из различных источников, составляет от 2,9 до 46,1% (в среднем 13%), а ТЭЛА – от 2,8 до 30% (в среднем 8%). При нахождении в отделениях реанимации и интенсивной терапии частота ТГВНК ещё выше и увеличивается в среднем до 20%, а ТЭЛА до 18%. При этом достаточно часто встречается изолированная ТЭЛА, без подтвержденного ТГВНК. Данная статистика, когда отсутствует доказанный источник ТЭЛА у многих пациентов на фоне новой коронавирусной инфекции, подтверждает гипотезу первичного тромбоза легочной артерии у данной категории больных. Развитие ВТЭО у больных COVID-19 ассоциируется как с неблагоприятным течением заболевания, так и с увеличением числа летальных исходов. Так, при наличии тромботических осложнений риск смерти у пациентов с COVID-19 становится выше приблизительно в 2-3 раза [14–16]. Помимо венозных тромботических осложнений на фоне коронавирусной инфекции встречаются также и артериальные тромбозы, однако их частота значительно меньше. Давно известно, что различные респираторные инфекции связаны с развитием сердечно-сосудистых осложнений, в частности острого коронарного синдрома (ОКС) и острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) [17–22]. Например, на фоне гриппа в два раза увеличивается риск развития острого инфаркта миокарда (ОИМ), данный риск сохраняется и в периоде реконвалесценции [22, 23]. По результатам метаанализа, в который вошло более 60 тысяч пациентов с COVID-19, частота развития у них ишемического инсульта составила 1,11%, в других исследованиях приводятся цифры от 0,9 до 2,7%. На первый взгляд частота ОНМК при коронавирусной инфекции не высока, однако она превышает таковую при гриппе в 7 раз. При этом в случае развития ОНМК значительно ухудшается прогноз заболевания и увеличивается летальность. У молодых пациентов основным патогенетическим механизмом развития ОНМК являются эндотелиальная дисфункция и гиперкоагуляционные изменения, характерные для коронавирусной инфекции, тогда как у пожилых пациентов большую роль играет имеющаяся сердечно-сосудистая патология [17–20]. Данных о влиянии коронавирусной инфекции на частоту развития ОКС в литературе встречается немного. В некоторых исследованиях отмечена связь COVID-19 с увеличением частоты ОКС. Повышенный риск ОКС на фоне коронавирусной инфекции обусловлен нарушениями эндотелия, дестабилизацией атеросклеротических бляшек и развитием внутрисосудистого тромбоза [22, 24, 25]. В результате проведенного клинического исследования G.G. Stefaniniс и соавторами были получены данные о том, что COVID-19 может не только способствовать развитию ОКС, но может манифестировать с ОИМ [26]. Большую проблему также представляет процесс тромбообразования в миркоциркуляторном русле, приводящий к нарушению функций различных органов и тканей, являющийся причиной полиорганной недостаточности, что значительно осложняет течение и исход заболевания. В данном случае присутствуют те же патогенетические механизмы, как и при формировании тромбоза в сосудах крупного калибра при COVID-19 [27, 28].
Геморрагические осложнения при новой коронавирусной инфекции встречаются значительно реже, чем тромбозы. Однако риск их возникновения нель- зя недооценивать в виду того, что среди подобных осложнений почти у половины пациентов развиваются тяжелые и жизнеугрожающие кровотечения. Разные авторы достаточно высоко оценивают общую частоту геморрагических осложнений, которая составляет от 4 до 8% у больных COVID-19 [29]. При тяжелом течении инфекции на фоне выраженных иммунологических нарушений возможно развитие септического поражения, сопровождающегося ДВС синдромом. Тяжелые геморрагии могут быть обусловлены коагулопатией потребления, характерной для ДВС синдрома и приводящей к дефициту различных факторов свёртывания крови, тромбоцитопенией, гипофибриногенемией. Подобные изменения, как правило, появляются в терминальной фазе заболевания. Среди выживших пациентов с COVID-19 признаки развития ДВС синдрома отмечались достаточно редко, менее, чем в 1% наблюдений. В то же время более, чем у половины больных с летальным исходом подтверждено наличие ДВС синдрома. Необходимо отметить, что не только развитие ДВС синдрома с сопутствующим потреблением факторов свёртывания крови может явиться причиной как тромбоцитопении, так и гипофибриногенемии. Дефицит тромбоцитов может быть вызван появлением аутоантител к ним на фоне иммунологических нарушений, а также повышенным их разрушением на периферии. Появление гипофибриногенемии также может быть обязано не только потреблению при ДВС синдроме, но и другим механизмам, в частности, использованию антагонистов рецепторов ИЛ-6, которые применяют при лечении пациентов с тяжелым течением COVID-19 [30–32]. К группе риска по развитию геморрагических осложнений относятся пациенты с врожденными нарушениями гемостаза, такими как болезнь Виллебранда, гемофилия, редкие коагулопатии, тромбоцитопатии. Назначение антитромботической терапии, обязательное для больных новой коронавирусной инфекцией, может привести к выраженной гипокоагуляции у таких пациентов. В то же время, благодаря исходно имеющейся гипокоагуляции, данные больные реже страдают от тромботических осложнений на фоне COVID-19 [33, 34].
Высокая частота тромботических осложнений у пациентов с COVID-19 определила необходимость назначения антитромботических препаратов для коррекции нарушений системы гемостаза и профилактики в первую очередь ВТЭО. Данный подход применяется как в остром периоде заболевания, так и после выздоровления, так как риск тромбоза сохраняется еще какое-то время после перенесенной коронавирусной инфекции. Однако нельзя не учитывать возможность развития геморрагических осложнений, что обуславливает необходимость оценки риска кровотечений у пациентов с новой коронавирусной инфекцией, особенно на фоне назначения антитромботической профилактики и тера- пии. В условиях стационара предпочтение отдается препаратам гепарина, а при амбулаторном лечении – прямым пероральным антикоагулянтам (ПОАК) в профилактических дозировках. Если назначение антикоагулянтных препаратов при среднетяжелом и тяжелом течении заболевания является обоснованным и не подлежит сомнению, то у пациентов с легким течением заболевания является обсуждаемым вопросом [35–37]. Гепарин в форме нефракциониро-ванного (НФГ) или низкомолекулярного гепарина (НМГ) стал «золотым стандартом» антикоагулянтной профилактики у пациентов в остром периоде новой коронавирусной инфекции. Гепарин в профилактических дозах рекомендован Международным Обществом Тромбоза и Гемостаза (International Society Thrombosis and Hemostasis – ISTH) всем пациентам с COVID-19, госпитализированным в стационар, в случае отсутствия противопоказаний к его назначению. Согласно национальным рекомендациям (версия 16 от 18.08.2022), использование НМГ или НФГ для антитромботической профилактики также показано всем пациентам во время госпитализации и должно продолжаться до выписки [38, 39].
Выбор препаратов гепарина на фоне острого течения коронавирусной инфекции обусловлен тем, что они обладают не только антикоагулянтным эффектом, но и имеют целый ряд свойств, позволяющих улучшить исходы у больных COVID-19. Гепарин не подвержен потенциальным межлекарственным взаимодействиям со специфической терапией, имеет управляемый антикоагулянтный эффект, а также обладает противовоспалительной активностью. История использования гепарина в качестве антикоагулянта насчитывает уже более 100 лет. Гепарин – это сульфатированный полисахарид, который представляет собой кофактор антитромбина, повышающий его антикоагулянтное действие. Самостоятельно гепарин обладает низкой антикоагулянтной активностью в отношении тромбина, однако при связывании с АТ, он увеличивает активность последнего в 2000-5000. Также результатом образования комплекса гепарин – антитромбин является многократный рост эффективности АТ относительно ингибиции активных форм IX, X, XI, XII факторов свёртывания крови. В связи с этим для полноценного лечебного действия гепарина является обязательным присутствие достаточной активности АТ у пациента. В терапевтических целях используют две формы гепарина: НФГ, который получают при экстракции и очищении из тканей животных, НМГ производится из НФГ посредством его деполимеризации. НМГ, в сравнении с НФГ, более распространен в клинической практике, в том числе и при коронавирусной инфекции, так как он обладает большим периодом полувыведения, удобным режимом дозирования, малым риском развития гепарин-ин-дуцированной тромбоцитопении и кровотечений [40–42]. Пациентам с COVID-19, госпитализирован- ным в стационар, большинство рекомендаций, в том числе российских, регламентирует использование именно профилактических доз НМГ для профилактики ВТЭО. Не решенным до конца является вопрос использования в таких случаях повышенных (промежуточных) и лечебных доз НМГ. Ряд авторов рекомендует применять такие дозы только в случаях высокого индивидуального риска ВТЭО или при подозрении на его развитие. После выписки из стационара пациентам также рекомендуется анти-тромботическая профилактика, особенно при сохраняющемся повышенном риске ВТЭО. При этом нет однозначного мнения относительно длительности использования антикоагулянтов после выписки из стационара, предлагаются сроки от 1 до 6 недель, рекомендуется учитывать факторы риска ВТЭО, уровень D-димера и данные ультразвукового исследования сосудов нижних конечностей. Пациентам со среднетяжёлой формой COVID-19 и высоким риском ВТЭО назначается антитромботическая профилактика и при амбулаторном лечении, при отсутствии высокого риска кровотечений. При использовании профилактических доз НМГ определение анти-Ха активности в качестве лабораторного контроля не требуется. Данное исследование может быть полезно для персонифицированного подбора дозы антикоагулянта у пациентов с почечной недостаточностью, экстремально низкой или высокой массой тела. На амбулаторном этапе чаще применятся профилактические дозы ПОАК ввиду наличия более удобной формы препарата [39, 43, 44]. ПОАК на данный момент являются наиболее часто назначаемыми препаратами для профилактики и лечения ВТЭО, широкое распространение они получили и для профилактики тромбозов у пациентов амбулаторного звена на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции. ПОАК представляют собой препараты, которые ингибируют напрямую активный фактор X (ривароксабан и апиксабан) или тромбин (дабигатран). Данные препараты вызывают эффективное снижение образования тромбина и гемостатического потенциала благодаря тому, что воздействуют непосредственно на ключевые звенья коагуляционного каскада. ПОАК обладают рядом существенных преимуществ в сравнении с препаратами гепарина или антагонистами витамина К, такими как пероральный прием, ожидаемый антикоагулянтный эффект, отсутствие необходимости подбора дозы и лабораторного контроля [45–47]. Однако использование их в остром периоде новой коронавирусной инфекции не рекомендуется ввиду возможности потенциального межлекарственного взаимодействия со специфической терапией [39, 48]. Польза использования антикоагулянтной профилактики при COVID-19 не подлежит сомнению, тогда как относительно назначения других препаратов с антитромботическим эффектом нет единого мнения, несмотря на то что достаточное количество исследований показывают их потенциальную пользу у пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, в рамках рандомизированного, плацебо-контролируемого исследования 243 пациента с диагнозом COVID-19 получали в амбулаторных условиях сулодeксид в дозе 500 ЛЕ два раза в день в течение 21 дня. Данная терапия ассоциировалась со снижением как риска госпитализаций на 40%, так и потребности в кислородной поддержке. Положительные результаты использования суло-дексида могут быть обусловлены его протектив-ным воздействием на эндотелий. Данный препарат может быть полезен больным с COVID-19 и наличием определенной соматической патологии, сопровождающейся дисфункцией эндотелия, например, сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, артериальной гипертензией и другой сердечно-сосудистой патологией. Применение сулодексида в качестве эндотелиопротекто-ра для амбулаторных пациентов перспективно и безопасно, так как не связано с повышением риска геморрагических осложнений и не требует лабораторного контроля [47–51]. Антиагреганты являются еще одной группой препаратов, применение которых может быть перспективно при новой коронавирусной инфекции, хотя доказательств целесообразности их широкого применения по литературным данным пока нет, и вопрос их применения у пациентов с COVID-19 остается дискутабельным. Известно, что антиагреганты обладают низкой эффективностью для профилактики ВТЭО, одного из основных осложнений COVID-19 [52, 53]. На данный момент в литературных источниках отсутствуют ссылки на рандомизированные исследования, которые бы показали преимущество добавления антиагрегантов к препаратам антикоагулянтного действия в сравнении с использованием только антикоагулянтов у пациентов с COVID-19. Одно исследование, проведенное в 2022 году, не показало улучшения исходов или снижения частоты ВТЭО у пациентов в остром периоде коронавирусной инфекции при добавлении к стандартной антикоагулянтной профилактике препаратов ацетилсалициловой кислоты [54]. В связи с этим убедительных доказательств эффективности применения антиагрегантов, в первую очередь препаратов ацетилсалициловой кислоты, на фоне коронавирусной инфекции нет [39]. Традиционно артериальные и венозные тромбозы рассматриваются как состояния с разными патофизиологическими основами тромбообразования, что подтверждается различиями в факторах риска и структурах тромбов, а также определяет разницу в терапевтических подходах. Препараты антиагрегантного действия применяются сейчас для профилактики и лечения тромбозов артериального русла, а антикоагулянты – венозного. Несмотря на меньшее присутствие тромбоцитов в венозных тромбах, они играют большую роль в их развитии, в связи с этим исследования для оценки эффективности антиагрегантных препаратов в профилактике ВТЭО продолжаются [54–56]. Применение низких доз аспирина вероятно может быть перспективно для профилактики артериальных тромбозов у больных COVID-19 с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. В данном случае при назначении антиагрегантов необходим персонифицированный подход с оценкой риска как тромботических, так и геморрагических осложнений, особенно на фоне использования антикоагулянтных препаратов [57].
Заключение. Таким образом, у пациентов в остром периоде COVID-19, с целью коррекции прокоагулянтных изменений и профилактики ВТЭО, рутинным является назначение препаратов гепарина в профилактической дозе. Такая тактика снижает как частоту ВТЭО, так и улучшает исходы заболевания. Назначение гепарина в больших дозах не нашло широкого распространения и не входит в клинические рекомендации по ведению больных COVID-19. Однако профилактические дозы гепарина не всегда оказываются эффективны. Использование других антикоагулянтов в остром периоде не реко- мендовано при наличии препаратов гепарина, тогда как после перенесённого заболевания ПОАК используются в большинстве случаев. Пролонгированная антитромботическая профилактика показана отдельным группам пациентов при наличии высокого риска развития ВТЭО. Использование других препаратов с антитромботическим действием возможно при наличии показаний и согласно персонифицированному подходу.