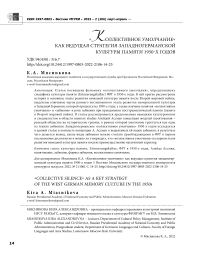"Коллективное умолчание" как ведущая стратегия западногерманской культуры памяти 1950-х годов
Автор: Мясникова Кира Александровна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (106), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена феномену «коллективного умолчания», определившему специфику культуры памяти (Erinnerungskultur) ФРГ в 1950-е годы. В ней кратко рассмотрены история и основные этапы развития немецкой культуры памяти после Второй мировой войны, выделены ключевые черты раннего послевоенного этапа развития мемориальной культуры в Западной Германии, который пришелся на 1950-е годы, а также изучены понятия «коллективное умолчание» и «забвение» и роль забвения при преодолении посттравматической памяти (память о Второй мировой войне). В статье рассматривается предложенная немецким культурологом и специалистом в области memory studies Алейдой Ассман концепция моделей памятования - реакций общества на исторические травмы, в рамках которой умолчание трактуется как одна из техник забвения. Западногерманское «коллективное умолчание» 1950-х годов исследуется в данной статье в контексте концепции А. Ассман и выделенных ей видов забвения, в результате чего делается вывод, какие виды забвения можно считать преобладающими в ФРГ в первое послевоенное десятилетие и можно ли утверждать, что «коллективное умолчание» на первом этапе развития немецкой культуры памяти носило преимущественно негативный характер.
Культура памяти, erinnerungskultur, фрг в 1950-е годы, алейда ассман, памятование, забвение, формы забвения, коллективное умолчание
Короткий адрес: https://sciup.org/144162558
IDR: 144162558 | УДК: 94(430) | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-2106-14-25
Текст научной статьи "Коллективное умолчание" как ведущая стратегия западногерманской культуры памяти 1950-х годов
Культура памяти (нем. Erinnerungskul-tur ) – собирательное понятие, обозначающее «общность не специфически научных вариантов применения истории в общественной жизни при помощи различных средств и для разных целей» (в оригинале: «… Sam-melbegriff für die Gesamtheit des nicht spezifisch wissenschaftlichen Gebrauchs der Geschichte in der Öffentlichkeit mit den verschiedensten Mitteln und für die verschiedensten Zwecke ») [17, p. 41] и отражающее то, «как общества помнят и … через воспоминание ‘воображают себя’» [5, с. 17]. Поскольку культура памяти рассматривает прошлое с «оглядкой» на настоящее, то она напрямую зависит от эпохи и уникальна для каждого периода истории. Особое значение понятие «культура памяти» имеет для немецкой истории второй половины XX века. Немецкая мемориальная культура многослойна и неоднородна: она вобрала в себя черты культур памяти ФРГ и ГДР [15], а ее становление проходило поэтапно, в несколько фаз и имело «пульсирующий характер» [6, с. 116].
Целью данной статьи стало изучение специфики культуры памяти ФРГ 1950-х годов и роли феномена «коллективного умолчания» в ее формировании. Большинство исследователей сходятся во мнении, что мемориальная культура ГДР развивалась не так активно и интенсивно, как в ФРГ: «…партийные установки … не допускали свободного критического исследования современной истории», из-за чего в ГДР «практически не было собственных наработок для научного исследования нацистской диктатуры» [11, с. 39]. В связи с этим под историей развития немецкой мемориальной культуры в первую очередь понимаются этапы становления западногерманской культуры памяти. Отношение к прошлому в ФРГ в первое послевоенное десятилетие кардинально отличалось от того, как немецкое общество стало воспринимать и оценивать национальную историю впоследствии – начиная с середины 1960-х годов вплоть до наших дней. Разумеется, в послевоенном западногерманском обществе сосуществовали разнородные тенденции в отношении памяти о войне, но преобладавшей стратегией памятования 1950-х годов принято считать «коллективное умолчание». Однако применительно к западногерманскому обществу 1950-х годов поня- тия «забвение», «умолчание» и «коллективное умолчание» трактуются по-разному, в связи с чем в статье предпринята попытка определить те виды забвения, которые являлись наиболее характерными для послевоенной немецкой мемориальной культуры.
Erinnerungskultur после 1945 года: особенности культуры памяти ФРГ 1950-х годов. Алейда Ассман, немецкий исследователь в области memory studies, с учетом исторических событий и изменений, происходивших в ФРГ после Второй мировой войны, разделила процесс становления Er-innerungskultur в Западной Германии на три фазы: 1) 1945–1957 годы; 2) 1958–1984 годы; 3) 1985 – настоящее время [4, с. 336]. Однако это не единственный вариант периодизации развития немецкой Erinnerungskultur: та же Ассман предлагает рассматривать историю Германии XX века и становление немецкой мемориальной культуры как смену поколений, подчеркивая «совместный исторический опыт», «сходные образцы социализации» и «общие ценностные структуры», на которых основывается поколенческая общность [4, с. 371]. Ассман выделяет 7 поколений, определявших немецкую историю на протяжении XX века, причем два из них (четвертое и шестое) Ассман называет промежуточными. При этом подходе история ФРГ после Второй мировой войны определяется тремя поколениями: 1) «скептическое поколение» 1945 года; 2) поколение 1968 года; 3) поколение 1985 года [4, с. 401–407]. Эти три поколения соотносятся с выделяемыми Ассман фазами развития немецкой Erinnerungskultur после 1945 года. Еще одну периодизацию развития западногерманской мемориальной культуры предлагают отечественные историки Д. И. Колесов, И. И. Маслова, О. А. Сухова и О. К. Шиманская, выделившие четыре основных этапа становления памяти о Второй мировой войне в ФРГ: 1) 1945–1949 годы; 2) конец 1940-х годов – 1950-е годы; 3) 1960-е–1970-е годы; 4) с 1985 года по настоящее время [9, с. 91-98]. Между представленными периодизациями есть ряд отличий, однако основные этапы развития немецкой мемориальной культуры во всех периодизациях совпадают: рубежными для ее развития стали конец 1950-х – начало 1960-х годов и середина 1980-х годов.
Что характерно для культуры памяти ФРГ на начальном этапе ее становления, с конца 1940-х по начало 1960-х годов? Исследователи, предлагающие периодизации немецкой мемориальной культуры, отмечают следующие особенности первого этапа ее развития: к основным участникам данного этапа относят «скептическое поколение» 1945-го года, т.е. родившихся в Веймарской республике в 1920-е годы и прошедших социализацию в период национал-социализма; основной стратегией памятования называется «коллективное умолчание» (Ассман в отношении 1950-х годов говорит также о «блокировке памяти»), а ключевыми вопросами общественно-политического дискурса – вопросы вины и ответственности (признание вины, разница между коллективной и индивидуальной ответственностью и др.) [2; 3; 9]. Среди исторических событий, определивших развитие мемориальной культуры на этом этапе (Д. И. Колесов и др. дали ему неоднозначное определение «ренацификационный»), – амнистирование бывших национал-социалистов (поправка в ст. 131 Основного закона ФРГ), создание Федеральной разведывательной службы Германии, введение воинской повинности, возвращение прежней образовательной системы, создание Союза изгнанных и т.д.
В отношении этого этапа развития немецкой Erinnerungskultur Ассман упо-
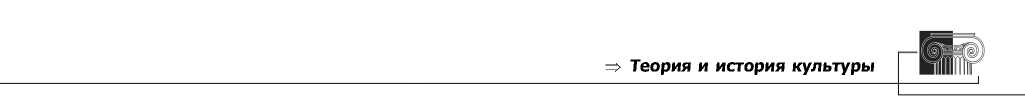
требляет термин «политика прошлого» ( Vergangenheitspolitik ), введенный немецким историком Норбертом Фраем [4, с. 336; 16]. Концепция «политики прошлого» Фрая подразумевает преодоление прошлого «средствами политики, юстиции, науки, экономики и образования» [16; 2, с. 260-261]. Однако проводимая в ФРГ в первые послевоенные годы «политика прошлого» сочеталась с противоположными процессами и, как пишет немецкий историк Ютта Шеррер, «сразу после окончания войны не произошло решительного разрыва с наследством Третьего рейха» [12, с. 91]. Не было ни признания преступлений, ни полноценного осмысления, ни окончательного забвения этого периода: «…период национал-социалистического режима … рассматривался как политически нерелевантный» [8, с. 99].
Надо отметить, что стратегия замалчивания также находила отклик в действиях властей: проводимая первым канцлером ФРГ Конрадом Аденауэром политика опиралась на замалчивание под предлогом «умиротворения общества и политической стабилизации». В результате к середине 1950-х годов в немецком обществе было примерно 3,6 миллионов денацифицированных и десятки тысяч амнистированных немцев, в том числе «в 1945—1949 годах осужденных в рамках Нюрнбергских процессов или военными судами союзников» [12, с. 92].
При этом часть общества продолжала бороться за свое право помнить и осмысливать прошлое: достаточно вспомнить роман «Жестяной барабан» Гюнтера Грасса, спектакль «Наместник» Рольфа Хоххута, идеи философов, мыслителей и политиков, которые поднимали вопросы ответственности немецкого общества и необходимости искупления вины. Отдельные мероприятия по «проработке прошлого» проводились уже в 1950-е годы (дея- тельность литературного объединения «Группа 47», создание Института современной истории в Мюнхене и т.д.), однако массовое общественное обсуждение национальной истории и преступлений нацистского времени началось лишь на рубеже 1950–1960-х годов, чему способствовала в том числе смена поколений и приход «поколения 1968-го года», готового к критическому осмыслению прошлого и его «проработке».
Для «скептического поколения» 1945 года первое послевоенное десятилетие оказалось, по словам немецкого историка Йорга Эхтер-нкампа, «периодом принудительной стыдливости, затруднившей рассказ о собственных переживаниях на войне», и в этих условиях война и послевоенное время слились в общественном сознании в единый «специфической комплекс переживаний», временной отрезок, «полный лишений и страданий» [14, с. 84-85]. Память побежденных после войны была плавно вытеснена памятью жертв, причем восприятие себя в качестве жертв войны было характерно для разных слоев населения в 1950-е годы: гражданское население считало себя «жертвами судьбы», а участники боевых действий жаловались на «диффамацию» и «оскорбление своего достоинства» со стороны держав-союзниц [14].
«Коллективное умолчание» в культуре памяти ФРГ 1950-х годов: замалчивание как реакция на травматическое прошлое. Вторая мировая война для немецкой истории стала тем событием, которое принято называть «исторической травмой». К событиям, которые могут восприниматься обществом как историческая травма, относят войны, массовые преследования и геноцид, утрату государственности, тоталитаризм, колониализм, рабство, а также социокультурные изменения, природные катастрофы, терро- ризм и др. [13, с. 7]. Такое событие-катастрофа всегда «оставляет глубокий шрам в сознании», однако реакция общества на историческую травму может варьироваться от обострения и гиперболизации памяти до искажения и радикального отказа от воспоминаний: среди возможных реакций – «силовое подавление памяти, оцепенение, шок, ужас, возмущение, гнев, скорбь, месть, примирение», а также отрицание и фальсификация [7; 2; 13, с. 7-8]. Подобную неоднородность реакций можно заметить и на примере немецкого послевоенного общества, хотя Ютта Шеррер отмечает, что «… большинство немцев стремилось к материальному и психологическому возрождению, вытесняя из сознания реалии нацистского государства, только-только ставшие прошлым» [12, с. 91].
Исследователи памяти никогда не отрицали тесной взаимосвязи категорий воспоминания и забвения, памятования и забывания: по словам директора Центра междисциплинарного исследования памяти (Эссен, Германия) Харальда Вельцера, «воспоминание, переработка и забвение — точки одного континуума, который мы называем памятью» [7, с. 62]. В мемориальных исследованиях второй половины XX века оппозиция «память – забвение» возникла именно в связи с изучением исторической травмы: о двух основных путях преодоления травматического прошлого писал израильский философ Авишай Маргалит, схожего мнения придерживаются теоретик истории Йорн Рюзен и специалист по истории античности Кристиан Майер. Маргалит противопоставлял памятование и забвение, трактуя памятование как сохранение прошлого, а забвение связывая с ориентацией на будущее [20; 3]. Эту оппозицию можно сформулировать в виде вопроса «помнить или забыть?» (его же ставит в своей работе Майер), в то время как
Рюзен скорее задается вопросом «говорить или молчать?» [20; 10; 21].
Алейда Ассман вступила в полемику с Маргалитом, поскольку простой оппозиции «памятование – забвение», по ее мнению, недостаточно, чтобы полноценно обсуждать механизмы преодоления исторической травмы. В связи с этим Ассман выделила четыре модели общественного отклика на травматические события прошлого [3, с. 207]:
-
1) «помнить, чтобы никогда не забывать»;
-
2) «помнить ради преодоления»;
-
3) «диалогическое памятование»;
-
4) «диалогическое забвение».
Первая модель подразумевает сохранение прошлого, т.е. память о событии включается в коллективную идентичность; вторая модель означает преодоление прошлого, социальную и национальную интеграцию; в модели «диалогическое памятование» представлена ситуация, когда память выходит за пределы одного государства, т.е. два или более государства оказываются связаны между собой памятью об общих событиях и исторических травмах. Наконец, последняя модель обращения с травматическим прошлым предполагает не памятование, а забвение, причем Ассман подчеркивает: не всегда забвение памяти несет в себе негативные коннотации, оно может быть «терапевтическим» [3]. С этим тезисом согласен и Харальд Вельцер: нет общепринятого консенсуса, что необходимо помнить, а что – забывать. Невозможно заранее предугадать, какое влияние будут иметь воспоминание и забвение, будет ли их воздействие «целительным» или «болезнетворным». Вельцер, как и Ассман, подчеркивает, что в оппозиции «память – забвение» «память» обычно вызывает положительные ассоциации, а «забвение» – отрицательные, но не всегда «помнить – лучше и здоровее, чем забывать»: например,
для обществ, пострадавших от Холокоста, сначала требовалось забыть катастрофу, и «только потом … снова сделать ее предметом воспоминания и поминовения» [7, с. 62].
Наиболее подробно категорию забвения Алейда Ассман исследовала в работе «Забвение истории – одержимость историей». По мнению Ассман, память и забвение представляют собой «сложное переплетение двух начал», а не оппозицию противоположностей [4, с. 1315]. Еще одно замечание Ассман основывает на идеях Фридриха Георга Юнгера, одного из ключевых исследователей забвения: забвение неоднородно и может различаться по своим функциям. Развивая идеи Юнгера, Ассман отмечает, что «забвение – собирательное понятие, за которым стоят очень разные действия, методы и стратегии» [4, с. 19]. В частности, Ассман выделяет несколько техник забвения (стирание, прикрытие, сокрытие, умолчание, переписывание, игнорирование, нейтрализация, отрицание, утрата), а также семь его форм: 1) автоматическое; 2) сберегающее; 3) селективное; 4) карающее и репрессивное; 5) охранительное; 6) конструктивное; 7) терапевтическое, отмечая, что «предлагаемый перечень не следует считать исчерпывающим» [4, с. 11-59].
В отношении западногерманской культуры памяти 1950-х годов наряду с понятием «забвение» используется и понятие «умолчание». В концепции забвения, предложенной Ассман, умолчание является одной из техник забвения. Умолчание как технику забвения она описывает так: «… умолчание не стирает из памяти тягостное событие, а лишь устраняет его из коммуникации» и «консервирует запретами (табу) социопсихологические травмы» [4, с. 21]. Действительно, память о Второй мировой войне в ФРГ 1950-х годов не стиралась, игнорировалась, переписывалась или отрицалась, как предполагают другие, более радикальные техники забвения, а вытеснялась из общественной коммуникации, при этом существуя в виде индивидуальных воспоминаний. Ассман подчеркивает, что забвение через умолчание «носит конвенциональный характер» и обычно служит нормализации социальных отношений.
Понятие «умолчание» (точнее «коммуникативное умолчание») применительно к западногерманскому обществу 1950-х годов впервые употребил немецкий философ Герман Люббе, использовавший его в 1983 году в одном из публичных выступлений, причем Ассман подчеркивает, что «Люббе вложил в это понятие не критический, а позитивный смысл» [4, с. 149]: для него «коммуникативное умолчание» подразумевало «кокон, где происходит превращение гусеницы в бабочку», аналогичное превращение проходило с членами НСДАП, когда они становились гражданами демократического государства [4, с. 149; 19].
Немецкие психологи Александр и Маргарета Митчерлих рассматривали молчание общества с точки зрения психоанализа как неспособность скорбеть и необходимость защититься от собственных эмоций – в их трактовке «коллективное молчание» было вытеснением из сознания посттравматической памяти о войне [22]. Герман Люббе иначе понимал причины «коллективного умолчания» 1950-х годов: основной причиной он считал общественную «сделку», негласное согласие об исключении памяти о войне из общественной коммуникации, «договоренность, что антифашисты не воспользуются известным им компроматом, а бывшие нацисты будут сдержаны в своих общественных притязаниях» [3, с. 43]. Благодаря этому общество смогло дистанцироваться от прежней идеологии и поддержать новое государство, тем самым молчание не позволило обществу расколоться [19].
«Коллективное умолчание» 1950-х годов в том смысле, который вкладывал в это понятие Люббе, являлось в соответствии с концепцией Алейды Ассман формой «диалогического забвения», имеющего терапевтические свойства. Память миллионов немцев не могла быть так просто уничтожена, стерта или вытеснена из сознания, она продолжала жить, сохраняясь в памяти в латентном состоянии, но именно «деликатное» умолчание в отношении к памяти о травматических событиях недавнего прошлого, по словам Ассман, способствовало интеграции западногерманского общества и экономическому подъему ФРГ в послевоенные годы.
Хотя в работе «Новое недовольство мемориальной культурой» Алейда Ассман употребляет в отношении «коллективного умолчания» 1950-х годов прилагательное «терапевтический» («…имеет терапевтическое воздействие на общество…»), отнести его к терапевтическому забвению – одной из форм забвения, выделяемой Ассман – нельзя. Терапевтическое забвение «позволяет справляться с бременем истории с помощью покаяния и признания вины» и «направлено … на примирение, интеграцию и преодоление совместной истории» [4, с. 56], однако его важной характеристикой является наличие двух фаз: сначала должно произойти памятование, обращение к прошлому и его проработка, а затем наступает фаза забвения, подразумевающая «обезвреживание истории, ее преодоление и дистанцированность». Ас-сман метафорически сравнивает терапевтическое забвение с перелистыванием страниц в книге: прежде чем перевернуть страницу, ее нужно сначала прочитать. Поскольку к 1950-м годам в западногерманском обществе еще не прошла фаза памятования и не было проработки прошлого, то говорить о терапевтическом забвении в данном случае кажется нам некорректным.
Забвение через умолчание, которое описывает Люббе, точнее относить к конструктивному забвению по терминологии Ассман. Конструктивное забвение способствует политическому, социальному и культурному обновлению, становится основой для начинаний и инноваций, подразумевая, что общество не стоит на месте, «увязая» в воспоминаниях о потерях, лишениях и исторических травмах, а движется вперед. Этот вид забвения позволяет «преодолеть страдания и утраты», а также – «стимулировать художественную и интеллектуальную активность» [4, с. 51-52], что видно на примере ФРГ 1950-х годов: на это десятилетие пришелся пик активности литературного объединения «Группа 47», одной из главных художественных задач которого было осмысление прошлого через культуру и литературу, а идеи Ханны Арендт, Карла Ясперса, Ойгена Когона, Теодора Адорно, Теодора Хойса и других немецких интеллектуалов 1950-х годов стали той основой, на которой впоследствии стала базироваться осмысленная и критическая «проработка прошлого», начавшаяся с середины 1960-х годов. Во времена «коллективного умолчания» и «расчистки послевоенных развилин» (буквальных и метафорических), которые пришлись на первое послевоенное десятилетие, подобное конструктивное забвение «внушало оптимизм» и становилось «основой для интеллектуальных инноваций», изменений во всех сферах жизни [4, с. 52-54].
Данные формы забвения (конструктивное и терапевтическое) Ассман называет позитивными: в этом случае забвение служит
залогом будущего. Однако забвение может быть нейтральным (сюда Ассман относит автоматическую, сберегающую и селективную формы забвения) и негативным (в эту группу входят деструктивное/репрессивное забвение, а также охранительное/совиновное забвение) [4, с. 59]. Взгляд под другим углом на события 1950-х годов в ФРГ демонстрирует, что господствовавшую в западногерманском обществе тенденцию «коллективного умолчания» можно интерпретировать не только как позитивное забвение.
Возможности человеческой памяти ограничены и неизбежно возникает проблема нехватки места для массива воспоминаний. Тогда забвение выступает как фильтр, отсеивающий лишнюю информацию и пропускающий лишь наиболее значимую или перспективную, что делает забвение необходимым элементом человеческого существования. Это также отмечала Ханна Арендт, подчеркивавшая социальную силу забвения: активная деятельность, по ее словам, возможна лишь тогда, когда есть надежда на забвение проступков и их негативных последствий: «Не будь у нас надежды на прощение и отпущение вины за содеянное, вся наша способность к действию оказалась бы парализована единственным проступком, от которого мы уже никогда не смогли бы оправиться» [1, с. 314; 4, с. 42]. В такой трактовке «коллективное умолчание» 1950-х годов можно отнести к селективному забвению, которое позволило немецкому обществу в дальнейшие десятилетия признать вину и взять на себя ответственность за совершенные преступления.
В то же время «коллективное умолчание», определявшее стратегии памятования о Второй мировой войне в 1950-е годы в ФРГ, можно рассматривать как негативное забвение, выступающее в качестве оружия [4, с. 59]. В частности, заместитель директора Института исследования тоталитаризма имени Ханны Арендт при Дрезденском техническом университете доктор Клеменс Фолльнхальс вспоминает, что «в 1950-е в университетах царило открытое нежелание заниматься недавним прошлым…» [11, с. 32]. Отсутствие в исторической науке 1950-х годов интереса к исследованию прошедшей эпохи объяснялось стандартным, по словам Фолльнхальса, аргументом – недостаточной дистанцией между историком и эпохой, однако, по его мнению, на самом деле дело было в «глубокой растерянности и беспомощности», «непонимании, как обращаться с наследием национал-социализма» [11, с. 32]. Обеспокоенность немецких интеллектуалов возможным забвением памяти о войне объяснялась усилившейся в 1950-е годы ремилитаризацией – введением воинской повинности, созданием Федеральной разведывательной службы, амнистированием бывших национал-социалистов и др.
В данном случае можно говорить об охранительном, или совиновном, забвении: оно спасительно для преступников. Известно, что высокопоставленные нацисты массово меняли после 1945 года имена, пытаясь таким образом избавиться от собственного прошлого и скрыть вину за содеянное, поскольку пока они оставались у власти, то находились под ее защитой, но «когда их [преступников] лишают власти, они делают ставку на забвение», заметают следы преступлений, чтобы избежать судебного преследования и ответственности [4, с. 48]. Возвращаясь к определению «коллективного умолчания», данному Германом Люббе, можно вспомнить, что он также писал об этом феномене. В поздних работах Люббе пояснял, что молчание 1950-х годов было неоднородным и служило разным целям для разных слоев: немецкое общество 1950-х годов можно было разделить на «нацистов, замешанных в преступлениях» и «безобидных нацистов» (к ним Люббе относил тех, кто, поддерживал нацистский режим или вступал в партию из оппортунизма, под влиянием пропаганды) [19; 3], «коллективное умолчание» было важно для обеих групп: если в отношении вторых Люббе говорил о «преобразующей» или «продуктивной силе умолчания», то первые могли извлечь из него выгоду в собственных корыстных целях [19]. Таким образом, охранительная форма забвения также присутствовала в западногерманском обществе 1950-х годов.
Заключение. Забвение памяти о Второй мировой войне в западногерманском обществе, пришедшееся на первое послевоенное десятилетие, выражалось в виде коллективного умолчания и прикрытия воспоминаний о прошлом: они не были уничтожены, индивидуальная память о войне была жива, но исключалась из общественного дискурса. В отношении западногерманского общества 1950-х годов следует говорить о модели «диалогического забвения»: для общества актуальнее было не сохранять или преодолевать воспоминания о прошлом, а временно предать их забвению. Однако забвение в данном случае понимается широко и необязательно несет в себе негативные коннотации: забвение может по-разному проявляться, иметь разнообразные формы и выполнять различные функции.
В случае «коллективного умолчания» в ФРГ 1950-х годов следует говорить о неоднородности забвения и сосуществовании в обществе нескольких его видов (в зависимости от того, к какой части общества и к какому поколению оно было обращено): в отношении части общества применимо использование понятия «конструктивное забвение» (разновидность позитивного забвения по А. Ассман). Оно имело «целебное» воздей- ствие на общество, позволило ему консолидироваться, стимулировало умственную деятельность, т.е. заложило основы для начавшейся уже в 1960-е годы «проработки прошлого». Однако наряду с позитивными формами забвения в западногерманском обществе 1950-х годов существовало и негативное, в частности охранительное (совиновное) забвение – спасительное для преступников нацистского режима, получивших возможность избежать наказания на преступления прошлого. Для людей, активно поддерживавших прежний режим, забвение и умолчание были спасением и уходом от ответственности, не только моральной, но и уголовной.
С другой стороны, часть общества воспринимала войну как историческую травму, для принятия которой должно было пройти какое-то время, в связи с чем умолчание 1950-х годов можно отнести к селективному забвению (вид нейтрального забвения), вызванному в первую очередь ограниченными возможностями человеческой памяти и необходимостью отсеивать лишнюю информацию. Селективное забвение позволило немецкому обществу проработать травму войны и «отрефлек-сировать» нацистское прошлое, признать вину и взять на себя ответственность за совершенные преступления. Такие формы забвения не дали обществу расколоться и позволили молодому государству сформироваться и подготовиться к будущей проработке прошлого, начавшейся с активизацией «поколения 1968-го года».
Говоря о роли поколений в процессе памятования и забвения, Алейда Ассман отмечает, что «коллективное умолчание» имело «терапевтическое воздействие на общество» в целом, но стало причиной «нарушения межпоколенческого диалога» между родителями («скептическое поколение» 1945-го года) и детьми («поколение 1968-го года»): «Умол-
чание являлось формой добровольного самоограничения, которое, возможно, пошло на пользу обществу, но не родителям и их детям». Этот конфликт поколений, родителей и их детей не только проявился в скорости и интенсивности общественных трансформаций («неприметно и медленно» – у скептического поколения и «резко и публично» – у поколения 1968-го года), но и показал пределы стратегии умолчания.
Забвение и умолчание были подавляющими в ФРГ 1950-х годов, но не тотальными, что позволило обществу в следующие десятилетия начать изменения и проработку прошлого. Именно те, кто в 1950-е годы предпочитал говорить, а не молчать, фактически определили направления послевоенного развития Германии и заложили фундамент для дальнейшего преодоления и проработки тоталитарного прошлого.
Список литературы "Коллективное умолчание" как ведущая стратегия западногерманской культуры памяти 1950-х годов
- Арендт X. Vita activa, или О деятельной жизни / перевод с немецкого и английского В. В. Бибихина. Санкт-Петербург: Aлетейя, 2000. 437 с.
- Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика / перевод с немецкого Б. Хлебникова. Москва: Новое литературное обозрение, 2014. 323 с.
- Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / перевод с немецкого Б. Хлебникова. Москва: Новое литературное обозрение, 201б. 232 с.
- Ассман А. Забвение истории - одержимость историей / перевод с немецкого Б. Хлебникова. Москва: Новое литературное обозрение, 2019. 552 с.
- Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / перевод с немецкого M. М. Сокольской. Москва: Языки славянской культуры, 2004. 3б8 с.
- Борозняк А. И. ФРГ: волны исторической памяти [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41). С. 104-117. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/frg-volny-istoricheskoj-pamyati.html
- Вельцер Х. История, память и современность прошлого. Память как арена политической борьбы [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41). С. 51-б3. URL: https:// magazines.gorky.media/nz/2005/2/istoriya-pamyat-i-sovremennost-proshlogo.html
- Кёниг Х. Память о национал-социализме, Холокосте и Второй мировой войне в политическом сознании ФРГ [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41). С. 9б-103. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/pamyat-o-naczional-soczializme-holokoste-i-vtoroj-mirovoj-vojne-v-politicheskom-soznanii-frg.html
- Колесов Д. И., Маслова И. И., Сухова О. А., Шиманская О. К. Историческая память о Второй мировой войне в Германии: этапы формирования [Электронный ресурс] // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2018. №1 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pamyat-o-vtoroy-mirovoy-voyne-v-germanii-etapy-formirovaniya
- Рюзен Й. Кризис, травма и идентичность // «Цепь времен»: проблемы исторического сознания / ред. Л. П. Репина. Москва: ИВИ РAH, 2005. С. 38-б2.
- Фолльнхальс К. Критический анализ национал-социализма в современной (западно)германской истории и германском обществе после 1945 года // Отношение к прошлому. Осмысление Германией двух ее диктатур. Москва: Политическая энциклопедия, 2018. С. 31-44.
- Шеррер Ю. Германия и Франция: проработка прошлого // Pro et Contra. 2009. Том 13. №3-4 (4б). С. 89-108.
- Шнирельман В. А. Травматическая память: подходы к изучению и интерпретации [Электронный ресурс] // Сибирские исторические исследования. 2021. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ travmaticheskaya-pamyat-podhody-k-izucheniyu-i-interpretatsii
- Эхтернкамп Й. «Немецкая катастрофа»? О публичной памяти о Второй мировой войне в Германии [Электронный ресурс] // Неприкосновенный запас. 2005. № 2-3 (40-41). С. 83-87. URL: https:// magazines.gorky.media/nz/2005/2/nemeczkaya-katastrofa-o-publichnoj-pamyati-o-vtoroj-mirovoj-vojne-v-germanii.html
- Faulenbach В. Die Erinnerungskultur Deutschlands [Электронный ресурс] // Urbane Erinnerungskulturen im Dialog: Berlin und Buenos Aires. Berlin: Metropol, 2009. pp. 37-46. URL: https://publications.iai.spk-berlin.de/servlets/MCRFileNodeServlet/iai_derivate_00000079/Urbane%20Erinnerungskulturen%20 im%20Dialog_Berlin_Buenos%20Aires_037-046.pdf
- Frei N. Vergangenheitspolitik: Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. München: C.H.Beck, 2012. 468p.
- Hockerts H. G. Zugänge zur Zeitgeschichte. Primärerfahrung, Erinnerungskultur, Geschichtswissenschaft // Verletztes Gedächtnis. Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt. Frankfurt am Main: Campus Fachbuch, 2002.p. 15-30.
- Lübbe H. Der Nationalsozialismus im deutschen Nachkriegsbewusstsein // Historische Zeitschrift. 1983. № 236.p. 579-599.
- Lübbe Н. Vom Parteigenossen zum Bundesbürger. Uber beschwiegene und historisierte Vergangenheiten. München: Wilhelm Fink Verlag, 2007. 143p.
- Margalit A. The Ethics of Memory. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003. 240 p.
- Meier Ch. Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns. Vom öffentlichen Umgang mit schlimmer Vergangenheit. München: Siedler Verlag, 2010. 160p.
- Mitscherlich A., Mitscherlich M. Die Unfähigkeit zu trauern: Grundlagen kollektiven Verhaltens. München: Piper Taschenbuch, 2007. 400p.