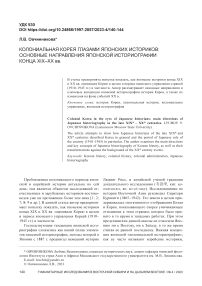Колониальная Корея глазами японских историков: основные направления японской историографии конца ХIХ-ХХ вв
Автор: Овчинникова Л.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 4 (66), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье предпринята попытка показать, как японские историки конца ХIХ и ХХ вв. оценивали Корею в целом и период японского управления страной (1910-1945 гг.) в частности. Автор рассматривает основные направления и ключевые концепции японской историографии истории Кореи, а также их изменения на фоне событий XX в.
История кореи, колониальная история, колониальное управление, японская историография
Короткий адрес: https://sciup.org/170201878
IDR: 170201878 | УДК: 930 | DOI: 10.24866/1997-2857/2023-4/140-144
Текст научной статьи Колониальная Корея глазами японских историков: основные направления японской историографии конца ХIХ-ХХ вв
Проблематика колониального периода японской и корейской истории актуальна по сей день: она является объектом исследований отечественных и зарубежных историков-востоковедов уже на протяжении более чем века [1; 2; 7; 8; 9 и др.]. В данной статье автор предпринимает попытку показать, как японские историки конца ХIХ и ХХ вв. оценивали Корею в целом и период японского управления Кореей (1910– 1945 гг.) в частности.
Господствующие тенденции японской историографии сложились как некий сплав элементов западной историографии, методы которой в Японии с 1887 г. продвигал немецкий историк
Людвиг Рисс, и китайской ученой традиции доказательного исследования (考證學, кит. ка-очжэнсюэ, яп. ко:сё:гаку). Исследованиями по истории Восточной Азии руководил Сиратори Куракити (1865–1942). Его школа в целом придерживалась «негативного» отображения Китая и Кореи, показывающего скорее уничижающее отношение к этим странам, которое было принято в то время в западных работах. При этом представители данной школы не относили Японию ни к Востоку, ни к Западу, в то же время считая ее равной последнему. Важная концепция японской «колониальной историографии», как ее часто называют корейские историки, была сформулирована в изданной Токийским императорским университетом «Истории Японии» (國史眼, «Кокусиган») 1890 г., на страницах которой была выдвинута теория происхождения корейцев и японцев от общих предков (日鮮同祖論, ниссэн до:сорон). Эта теория, основываясь на японских летописях «Кодзики» и «Нихон сёки» (VIII в.), утверждала, что легендарный Сусаноо, брат богов Аматэрасу и Цукиёми, вторгся на территорию государства Силла и управлял им. Несколько других мифов о Сусаноо включают отсылки к Корее или региону западной Японии, ближайшему к полуострову [3; 5]. Такой взгляд на историю Кореи, где речь идет о подчинении Японии, стал широко распространяться в научных кругах и сделался неотъемлемой частью исторической концепции. Последняя отразилась и в других книгах, изданных в конце XIX – начале XX вв. Например, О:тори Кэйсукэ в «Хронике корейской истории» (朝鮮紀聞, «Тё:сэн кибун») 1885 г. и Хаяси Тайсукэ в «Истории Кореи» (朝 鮮史, «Тё:сэнси») 1892 г. выдвигали те же идеи. Еще одной темой японской колониальной историографии была чрезвычайная отсталость Кореи, о которой впервые заговорил в 1902 г. экономист Фукуда Токудзо:, утверждавший, что современная ему Корея находилась на том же уровне развития, что Япония в период Хэйан (VIII–XII вв.).
Со времени заключения Японо-корейского договора 1876 г. японская империя все больше вовлекалась в дела Кореи. После того как Русско-японская война 1905 г. открыла для Японии возможность колонизации Маньчжурии, в Японии широкое распространение получила идея «общей и неразрывной маньчжурско-корейской истории» (滿鮮史, мансэнси). В этой теории, которую в 1920-х – 1930-х гг. сформулировал Ивакити Инаба, Корея характеризовалась гетерономией (несамостоятельностью) в области политики и экономики, и посему была лишена «независимости и самобытности». С 1915 г. японское правительство силами корейского генерал-губернаторства приступило к формулированию концепций историографии Кореи. Генерал-губернатор Сайто: Макото выступил с критикой националистически настроенных писателей и историков корейского происхождения Син Чхехо, Чхве Намсон и Ли Гвансу, что было частью общей политики «сдерживания культурного развития» после демонстраций Первомартовского движения за независимость 1919 г. Отдел образования генерал-губернаторства выпустил 35-томное издание «Корейцы» (朝鮮人, «Тё:сэндзин»), в котором подчеркивалась необходимость ассимиляции корейцев японцами. С этой целью японские интеллектуалы предлагали, например, переделать корейские фамилии на японский манер. В 1922 г. генерал-губернаторство назначило комиссию, целью работы которой была подготовка 35-томной «Истории Кореи» (朝鮮史, «Тё:сэнси»). Это издание представляло собой в основном выдержки из китайских, японских и корейских исторических источников и использовалось как первоисточник для исторических трудов по Корее периода японского господства. Японская администрация также производила осмотр и оценку исторических артефактов на Корейском полуострове ( 古蹟調查事業, косэки те:са дзигё:) и пыталась опровергнуть распространенное представление о важности в культуре Кореи фигуры Тан-гуна (или Дангуна, легендарного основателя государства Древний Чосон). Распространено было и изображение корейцев как нации, отличающейся низкопоклонством в отношении других стран, в частности, Китая.
В 1920-х – 1930-х гг. появились отдельные работы японских политиков и экономистов о методах японского колониального управления в Корее. В первой половине 1930-х гг. активно работали историки националистической школы. Самым авторитетным из них был профессор истории Токийского императорского университета Хираидзуми Киёси, который начиная с 1935 г. развивал теорию «взгляда на историю, ориентированного на императора» (皇国史観, ко:коку сикан). Хираидзуми настаивал на божественном происхождении императорской власти и утверждал, что такая «высшая» держава, как Япония, должна «выходить» за пределы своих границ. Эта идея служила основой милитаристской политики с середины 1930-х гг. и использовалась для оправдания японского экспансионизма. Хираидзуми помог основать Учебный семинар по истории, который курировал содержание учебников истории. Его точка зрения получила официальное одобрение со стороны Министерства образования. При его поддержке Хираидзуми создал новый сильно политизированный курс «История японской мысли» (日本思想講座, «Нихон сисо: кодза»). Он также был членом «Ассоциации большой Азии» (大アジア協会, «Дай Адзиякё:кай») – группы политиков, дипломатов и других лиц, которая занималась распространением японского националистического мышления по всей Азии. После оккупации союзниками Японии Хираидзуми уволился из университета, но продолжал читать лекции, придерживаясь националистических взглядов. Без него в стенах исторического факультета Токийского университета националистические тенденции начали меняться на противоположные, его взгляды начали выходить из моды, заменяясь марксистской историографией.
Японские историки-марксисты занимались вопросами японской историографии, в частности трактовками реставрации Мэйдзи, еще в 1920-е – 1930-е гг. Отечественные историки (П.П. Топеха, Н.Ф. Лещенко и др.) писали о складывании довольно влиятельной марксистской школы в довоенной Японии [4; 6]. Группы ро:но:ха и ко:дзаха они характеризовали как разные направления этой школы и описывали, как в ходе острых политических дискуссий формировались взгляды их представителей. В 1936 г. многие члены группы ко:дзаха были заключены в тюрьму, а в 1937–1938 гг. сторонники ро:но:ха были помещены под наблюдение. Известен также инцидент с профессором университета Васэда историком Цуда Сокити, который в 1942 г. был заключен в тюрьму. Изучая японскую мифологию и древние памятники, он подверг научной критике достоверность «Кодзики» и «Нихон сёки » и предлагал пересмотреть официальную концепцию древней Японии.
Марксистская историческая школа продолжала существовать и в послевоенной Японии. Попытки марксистов переосмыслить эпизоды японской истории, в частности – реставрацию Мэйдзи, особенно заметно проявились на ежегодных конференциях «Общества изучения истории» в середине 1950-х гг.
Монографии на общие темы колониальной истории начали издаваться в Японии в 1960-х гг. Огромное количество работ по отдельным аспектам истории Кореи выпускается до сих пор. Представить их все в одной статье невозможно, достаточно сказать, что объем японских исследований по корейской истории – самый значительный в мире за пределами Южной Кореи, наряду с монографиями и исследованиями по данной проблематике, выходящими в Соединенных Штатах. Ежегодно в Японии выходит около ста книг и около 142
тысячи академических статей, посвященных различным периодам истории Кореи. Колониальный период всегда занимал среди них одно из важнейших мест со времени образования и начала деятельности в 1959 г. «Японского общества изучения истории Кореи» ( 朝鮮史研究 会 , Тёсэнсикэнкю:кай ). В этих трудах продолжилось начатое еще в колониальный период исследование японской колониальной политики в Корее, однако оно отличалось значительно более критической ее оценкой. Следует отметить, что в работах, посвященных японской колониальной политике в Азии, больше всего внимания уделяется именно Корее, а также Маньчжурии и Тайваню. Первой серьезной монографией стала вышедшая в 1965 г. «Краткая история японской аннексии Кореи» ( 日韓併合 小史 , «Никкан хэйго: сё:си» ) Ямабэ Кэнтаро: [11]. Упомянем и деятельность Хадата Такэси, который внес большой вклад в научные исследования колониального управления Кореи и критически оценивал деятельность японского генерал-губернаторства.
Нужно также отдать должное японским историкам и экономистам 1960-х гг., которые считали, что рассматривать экономическое развитие Японии в первой половине ХХ в. невозможно без систематического и полного исследования тесных связей метрополии с ее колониями. В 1970-е гг. было собрано немало документов и материалов, которыми могли воспользоваться японские ученые; объем исследований на эту тему особенно возрос к 1990-м гг. Вопросы колониальной истории нашли отражение в изданиях «Истории Японии» ( 日本史 , «Нихонси» ), первое из которых вышло в 1962 г.. Эти издания и 8-томный труд «Япония Новейшего времени и ее колонии» ( 近代日本と植民地 , «Киндай Ни-хон-то сёкуминти» ) сыграли ключевую роль в идущих с начала 1980-х гг. дебатах относительно роли Японии в Азии, ее ответственности перед азиатскими народами. В результате появились труды по историографии, которые рассматривали конкретные аспекты колониальной истории, например, связи между различными территориями империи, проблемы колониального общества (например, сосуществование колонизатора и колонизуемого), индустриальное развитие в различных районах Кореи и другие. В 1988 г. начало свою деятельность «Японское общество изучения колониальной истории» ( 日本植民地研究会 , «Нихон сёкуминти кэнкю:кай» ).
В 1990-е гг. в японскую историографию в значительной мере вернулись консервативные подходы, бросающие вызов модернизму и выступающие за возврат к традиционной национальной культуре. Эти подходы можно было проследить, хоть и в ограниченной степени, и в период после 1945 г., но распад СССР и крах марксистской идеологии в глобальном масштабе в конце 1980-х гг. придали этому процессу новую динамику. Сторонники консервативных взглядов под руководством историка Фудзиока Нобукацу утверждали, что имеющиеся исследования, посвященные военным преступлениям Японии в странах Азии, в том числе и в Корее, в период 1930-х – 1940-х гг., подрывают национальное достоинство Японии. Они выражали намерение провести более взвешенный анализ фактов, сосредоточив свое внимание на восстановлении правды об исторических эпизодах, в том числе о Нанкинской резне, о проблеме «корейских женщин для утешения» и др. Данная тема до сих пор является чувствительным вопросом в отношениях Японии со странами Азии, прежде всего Кореей и Китаем, а также внутри японского общества и политических кругов. Желание ряда деятелей пересмотреть трактовки военных эпизодов 1930-х – 1940-х гг. способствовало образованию в 1996 г. «Японского общества за создание новых учебников истории» ( 新しい教科書をつくる会 , «Атара-сий рэкисикё:касё-о цукурукай» ). Его сторонники утверждали, что учебники слишком фокусируются на темных аспектах японской истории и возлагают всю ответственность за разрушения, вызванные войной, исключительно на Японию. В 1999 г. группа сторонников данного общества создала организации для рекламы нового учебника в каждой префектуре; члены Либерально-демократической партии также создали ассоциации в его поддержку. Черновой вариант их книги, одобренный Министерством образования Японии в 2001 г., вызвал серию дипломатических инцидентов с Китаем и Южной Кореей, но был в конечном итоге издан и продан тиражом 600 тыс. экземпляров к 2004 г.
В конце 1990-х гг. получила распространение идея, что японская национальная культура и идентичность во многом сформировались под влиянием чувства неуверенности и беспокойства по поводу того, что японцы незаслуженно и необоснованно являются объектом критики, в частности – со стороны стран Юго-Восточной Азии.
Список литературы Колониальная Корея глазами японских историков: основные направления японской историографии конца ХIХ-ХХ вв
- История Кореи (с древнейших времен до наших дней): в 2-х т. Т. 2. М.: Наука, 1974.
- История Кореи (Новое прочтение). М.: РОССПЭН, 2003.
- Кодзики – Записи о деяниях древности. Т. 1. СПб.: Шар, 1994.
- Лещенко Н.Ф. «Революция Мэйдзи» в работах японских историков-марксистов. М.: Наука, 1984.
- Нихон сёки – Анналы Японии: в 2-х т. СПб.: Гиперион, 1997.
- Топеха П.П. К вопросу о характере «Мэйдзи исин» // Историко-филологические исследования. М.: Наука, 1967. С. 499–504.
- Хан Ёнъу. История Кореи: новый взгляд. М.: Восточная литература, 2010.
- Нихон рэкиси [История Японии]. Токио: Иванами сётэн, 1962.
- Ямабэ Кэнтаро. Никкан хэйго: сё:си [Краткая история японской аннексии Кореи]. Токио: Иванами сётэн, 1965.
- Akita, G. and Palmer, B., 2015. The Japanese colonial legacy in Korea. 1910–1945. A new perspective. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Shin, G.W. and Robinson, M. eds., 1999. Colonial modernity in Korea. Cambridge: Harvard University Press.