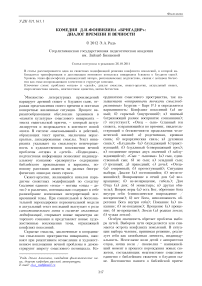Комедия Д. И. Фонвизина «Бригадир»: диалог времени и вечности
Бесплатный доступ
В статье рассматривается одна из сюжетных модификаций решения конфликта поколений, в которой наблюдается трансформация и диссоциация мотивного комплекса инварианта (сюжета о блудном сыне). Уровень этико-философских размышлений автора, распознаваемых подтекстово, связан с мотивом бесчестия как смыслопорождающим элементом в структуре комедии.
Проблема "отцов" и "детей", диалог смыслов, сюжет-архетип, актуальный сюжет, сверхличностная память, межтекстовое единство, мотив бесчестия
Короткий адрес: https://sciup.org/148101075
IDR: 148101075 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Комедия Д. И. Фонвизина «Бригадир»: диалог времени и вечности
Множество литературных произведений варьирует древний сюжет о блудном сыне, отражая представления своего времени и постигая конкретные жизненные ситуации. Процесс ва-риантообразования обусловлен хранением в «памяти культуры» смыслового инварианта – текста евангельской притчи, – который актуализируется и возрождается в контексте новой эпохи. В системе «высказываний» и действий, образующих текст притчи, заключены нераскрытые, закодированные смыслы. Текст инварианта указывает на смысловую неисчерпан-ность в художественном воплощении вечной проблемы «отцов» и «детей». «Подводная», подтекстовая информация позволяют индивидуальному сознанию «развернуть» содержание библейского произведения в варианты, по-новому расставив акценты на разных биографических эпизодах своих героев.
Сюжет-архетип, являющийся началом парадигмы сюжетных модификаций по сходству (наличие единого «гена» – мотива «отцы – дети») и различию, потенциально содержит в себе разнообразие возможных интерпретаций все-временной темы. При сознательной и бессознательной перекодировке первоначальной модели в актуальный текст последний выступает в роли самостоятельного звена в системе сюжетных модификаций , открывает новые параметры авторского сознания и представляет новые художественные воплощения темы, отражающей конфликт поколений.
Скрытые смыслы, заключенные в координатах смыслового пространства инварианта, оживают при рецептивном осмыслении и художественном воплощении вечной проблемы и демонстрируют широту смыслового потенциала. Ко-
Радь Эльза Анисовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы.
ординатами смыслового пространства, так называемыми « отправными точками смыслооб-разования » (курсив – Барт Р.) и определяется вариативность: Конфликт поколений (а) явный; б) скрытый (внутренний); в) мнимый (отражающий разное восприятие сознаниями); г) отсутствует); «Отец – сын» (главный ген сюжета, сохраняющийся во времени, свидетельствующий о бесконечности продолжения человеческой жизни): а) родственная, кровная связь; б) иерархическая связь; в) духовная связь); «Блудный» (а) блуждающий (странствующий); б) блудливый (совершающий грех); в) соединение первых двух значений г) заблуждающийся); «Сын – сыновья» (а) сын, единственный сын; б) не сын; в) младший сын; г) грешный; д) праведный; е) дочь); «Отец» (а) смиренный; б) протестующий); Ситуация выбора; Диалог (а) состоявшийся; б) несосто-явшийся); Возвращение в отчий дом (а) возвращение; б) не-возвращение, гибель); Дом Отца (а) дом; б) монастырь; в) другая обитель); Вопрос веры (а) есть Бог, обретение бога внутри себя (символическое возрождение / воскрешение); б) нет Бога, невозможность обретения Бога внутри себя); Покаяние (а) покаяние; б) не-покаяние); Прощение (а) прощение; б) не-прощение); Земля (а) родная земля; б) чужая земля).
Особую значимость обретает проблема выбора путей. Выбором пути определяется или снимается острота конфликта поколений. В ситуации выбора человек, принимая решение, реализует себя как самобытная личность, индивидуальность. Несогласие воли детей с авторитетом отцов, мотив воли / своеволия – наиважнейший момент в процессе порождения новых сюжетов, составляющих межтекстовое смысловое единство с библейским сюжетом о блудном сыне. Постоянство памяти о библейской притче связывается с наличием конфликта поколений и мотива своеволия, что и позволяет нам говорить о «бесконечной» жизни исследуемого сюжета, его модификациях как результате художественного моделирования.
Мотив воли / своеволия в библейском сюжете сопряжен с мотивом доли. Конструктивность и сюжетообразующая функция диады «воля – доля» для притчи очевидна, а для последующих (актуальных) сюжетов художественно продуктивна. Диада «воля – доля», ситуация выбора, степень конфликтности дают возможность углубления в сознание героев, постижения человековедения на примерах произведений художественной литературы. Совокупность инварианта и максимального числа вариантов (модификационных моделей) позволяет говорить о системе, транслирующей и эксплицирующей смыслы, имплицитно присутствующие в инварианте.
Сверхличностная память коррелирует с индивидуальной авторской памятью. Главный «ген» инварианта сохраняется в актуальном сюжете, чья жанровая принадлежность может быть разнообразной. Меняются и «результаты» разрешения конфликта поколений. Между актуальными моделями возникает корреляция смыслов в плане совпадений и отклонений, отражая спектр возможностей функционирования текста инварианта. Текст евангельской притчи «вторгается» в новый структурный вариант благодаря мотиву «отцы – дети», актуализирующему в читательском сознании притчу без воспроизведения ее в тексте и разворачивающемуся в сюжетную ситуацию сотворения детьми собственной биографии (выбора) и несогласия с волей отцов (конфликта поколений). Так сюжет-архетип, расширяя смысловое пространство текста, становится метатекстом по отношению к другим моделям-вариантам.
Особенность метатекстуальной системы в системе – генетическая художественная предопределенность. С помощью «языка» инвариантной модели и происходит процесс варианто-и смыслопорождения. Вариантопорождение осуществляется как на сюжетно-мотивном уровне, ибо именно сюжет (в отличие от других уровней текста) наиболее открыт для любого рода трансформаций и диссоциаций, так и на повествовательном уровне. В «процедуре» ва-риантопорождения писатель чаще всего не сознательно создает свой текст по существующей модели, а наоборот, универсальная модель «живет» в области бессознательного, в его творческой памяти. Как отмечает Р.Барт, ««искусство» рассказчика – это способность порождать повествовательные тексты на основе опре- деленной структуры (кода)»1. Таким кодом и является евангельская притча о блудном сыне. Существующая в русской литературе система модификаций одного сюжета-архетипа подчиняется одной и той же формальной организации. Сохраненный в «новом» повествовательном тексте основной «ген» модели сюжета-архетипа обнаруживает со структурной точки зрения присутствие нарративных категорий (конфликт поколений, мотив своеволия и др.). «Ген» как концепт конструктивен и образует концептосферу универсальной модели.
Элементы универсального сюжета связаны с другими элементами отношением корреляции. Ц. Тодоров отмечает: «Значение (или функция) того или иного элемента в произведении – это его способность вступать в коррелятивные связи с другими элементами этого произведения и со всем произведением в целом»2. В тексте инварианта коррелируют пары: «уход – возвращение», «блуждание – возвращение», «отцы – дети», «грехопадение – покаяние», «воля – доля», «умирание – воскрешение», «часть наследства – расточение», «смирение – радость» и др. Таким образом, можно говорить о порождении совокупности парадигматических смысловых корреляций, обусловленной альтернативной возможностью, открывшейся сюжетной ситуацией выбора и имеющей для дальнейшего хода действия наиважнейшее значение. Предложенная жизнью в ситуации выбора альтернативность, в свою очередь, образует дихотомию понятий: возвращение и не-возвращение; покаяние и не-покаяние; вера и неверие; диалог состоявшийся и не-состоявшийся; Земля родная и чужая и др.
Возможная дихотомия предполагает подчеркнутую диалогизацию внутренней структуры нарратива инварианта. Поэтому в авторских текстопорождающих интенциях, направленных на отражение конфликта поколений, содержатся два сюжетно-смысловых плана: первый – реально-эмпирический план (уровень повествовательного текста и актуального сюжета) и второй – мифологический (уровень сохраненного в повествовательном тексте сюжета-архетипа). Мотив «отцы – дети» в нарративной структуре, развернутый в вариант конфликта поколений (этот мотив предполагает и бесконфликтные отношения, как, например, в случае со старшим сыном в притче), становится образом – метафорой, актуализирующим для читательского сознания семантическое поле мифа, вступающе- го в диалог с реальностью. Диалог актуального сюжета и мифа заключает в себе возможность трансформации мифического архетипа в разные (и противоположные в том числе) по смыслу образы. Эту возможность художественно реализует авторское сознание.
Одним из звеньев в парадигме модификаций сюжета о блудном сыне3, примером неявного, бессознательного «воспроизведения» фабулы евангельской притчи в русской литературе XVIII века, которому мотив «отцы – дети» передал конфликтность взаимоотношений поколений, является комедия Д.И.Фонвизина «Бригадир». Тематическая концепция данного мотива соединяет тексты разных историколитературных периодов в единое смысловое пространство и осуществляет связь времен, образуя типологическое схождение. В процессе осмысления несовершенства русской действительности Д.И.Фонвизин в своих сатирических произведениях выпукло и емко изобразил человека как носителя, прежде всего, таких общечеловеческих моральных качеств, которые недостойны гордости и уважения, обличил сущее как то, чего не должно быть. Затрагивая вопросы нравственности и весьма своеобразно (в комедийном жанре) решая извечную проблему «отцов» и «детей», «высокая» комедия Фонвизина бросает сатирически-обличительный взгляд на взаимоотношения поколений, предполагая, на наш взгляд, идею глубинной, внутренней диалогичности мысли и диалогичности смыслов.
Обнажая пороки современного общества, в котором соотношение «материальное – духовное» трансформировано в сторону преобладания первого, индивидуально-авторское сознание Фонвизина создало вариацию одного известного сюжета-архетипа. Христианская модель мира, отраженная в нем, заключает в себе торжество духа над плотью и идеальность в решении проблемы «отцов» и «детей». В нарративе комедии «Бригадир» ценность материального (физического) оказывается приоритетной, а моральные качества, объединяющие отрицательных героев, обозначены единым понятием «бесчестие».
В механизме моделирования нового смысла возрожденного в читательском восприятии инварианта авторское сознание проявляет способность облекать смысл в новую сюжетную структуру и жанровую форму, привнося свою, в соответствии с исторической эпохой, концептуальность. В сюжетной структуре первообраза сопряжены мотивы «отцы – дети», волеизъявления, ухода, странствия, грехопадения, воз- вращения, покаяния, прощения. Предложенный человечеству идеал определяет способ мышления в извечном конфликте поколений и регулирует жизнь, так как идеальное есть духовное образование, выражающее должные устремления. Литература же «выдает» трансформацию и диссоциацию первоначального структурного кода, новый комплекс идей. Что позволяет нам проследить как историческое развитие сюжета-архетипа, так и его фабульные варианты. В «процедуре» вариантопорождения писатель не сознательно создает свой текст по существующей модели, а универсальная модель «живет» в области бессознательного, в его творческой памяти.
Мотивы странствия (= путешествия в Париж), грехопадения (= расточительности; из текста известно, что Иван «повеса»), возвращения структурно и формально ставят 25-летнего инфантильного Ивана, который все еще «подобен воску», в один ряд с евангельским блудным сыном. Но негативное наполнение образа, его статичность (статичны все персонажи этого произведения), греховность и низменность родительского дома выводят героя из этого ряда. Явно обозначенный конфликт поколений выражен в несовпадении взглядов на жизнь, брак, семью, в разном отношении к делу, в проявлении своеволия. Структура произведения как носитель нового смысла сходна с евангельским текстом по контрасту: тема «отцы – дети» в аспекте духовного / материального, возвышенного / низменного, должного / недолжного.
Через покаяние, духовное возрождение к обретению бога в себе проходит путь библейский блудный сын. Образ Ивана не подразумевает внутреннего перерождения. Невозможность духовных метаморфоз обусловлена низменной, бездуховной средой. Мы наблюдаем диссоциацию мотивного комплекса фабульного инварианта – отпадение указанных мотивов.
Г.А.Гуковский отмечал: «В этой комедии Фонвизин предал осмеянию варварство, тупоумие, подлость дворянства, не просвещенного новой дворянской культурой, притом дворянства провинциального и «ненастоящего», дворянской черни»4. Бездуховные ценности формирующей среды как совокупность типичных для русской действительности бытовых и материальных факторов, среди которых существенную роль играет семья, составили внутреннее содержание личности. «Отцы», не приобщающие своих детей к соборному началу, отказывающиеся от своей национальной культуры, национальных семейных традиций, и обрекли себя на самоотрицание.
В отказе от русских корней сына Ивана, в его несогласии с вековыми национальными традициями, в неприятии родителей (« Я индифе-ран (равнодушен – Э.Р.) во всем том, что надлежит до моего отца и матери »5) и заключен собственно конфликт поколений. Главные человеческие ценности не известны ни «отцам», ни «детям». Исключение – Добролюбов и Софья, сохранившие честь и достоинство, оттеняют пороки главных персонажей, но лишены автором активности и участия в конфликте произведения. «Философия жизни», отражающая убогое мировоззрение Ивана, представлена в диалогах с Советницей.
Сын. <…> Осторожность, постоянство, терпеливость похвальны были тогда, когда люди не знали, как должно жить на свете; а мы, которые знаем, что это такое, que de vivre dans le qrand monde (жить в большом свете – Э.Р .), мы, конечно, были бы с постоянством очень смешны в глазах всех таких же разумных людей, как мы ( Явл. VI, Д. II).
***
Сын. Madame! Скажите мне, как вы ваше время проводите?
Советница. Ах, душа моя, умираю с скуки. И если бы поутру не сидела я часов трех у туалета, то могу сказать, умереть бы все равно для меня было; я тем только и дышу, что из Москвы присылают ко мне нередко головные уборы, которые я то и дело надеваю на голову.
Сын. По моему мнению, кружева и блонды составляют голове наилучшее украшение. Педанты думают, что это вздор и что надобно украшать голову снутри, а не снаружи. Какая пустота! Чорт ли видит то, что скрыто? А наружное всяк видит.
Советница. Так, душа моя: я сама с тобою одних сентиментов; я вижу, что у тебя на голове пудра, а есть ли что в голове, того, чорт меня возьми, приметить не могу. (Явл. III, Д. I)6.
Кодекс бесчестия составили духовная пустота, непостоянство, легкомысленность и глупость. Мотивы бесчестия и духовной пустоты связаны отношением корреляции. Неоднократное упоминание героями на протяжении всего произведения понятий чести и бесчестия, расхождения в понимании чести – также отражение проблемы «отцов» и «детей». Трансформированное представление Ивана о чести – в желании прославить своего отца не личными заслугами перед отечеством (что соответствует общечеловеческим представлениям о морали и чести), а «знанием света», знанием французского языка. В разговоре с Добролюбовым выявляется разная смысловая наполняемость понятия «честь».
Сын. <…> Вы, monsieur (к Добролюбову), конечно, знаете сами много детей, которые делают честь своим отцам.
Добролюбов. А еще больше таких, которые им делают бесчестье. Правда и то, что всему причиной воспитание7 .
Мотив бесчестия сопряжен с ситуацией любовного переплета, названного Г.П.Макого-ненко любовным «маханьем»8, в которой высмеивается «благородное сословие», узнающее о бесчестии по отношению друг к другу лишь в конце пьесы, в отличие от читателей. Еще в первом действии Софья примечает: «…Кроме бригадирши, кажется мне, будто здесь влюблены все до единого ». Добролюбов дает оценку: « Правда, только разница состоит в том, что их любовь смешна, позорна и делает им бес-честие »9. Порочность любви приобретает смысловой оттенок любви бесчестной. «…Вместо одной любовной пары в комедии «амурятся» все основные действующие лица, пренебрегая и моральными нормами, и здравым смыслом»10.
Любовные «маханья» старшего поколения определили порочность любви молодых людей – Ивана и замужней Советницы, по возрасту и по духу близких друг к другу (« Как судьбина милосердна! Она старается соединить людей одного ума, одного вкуса, одного нрава, мы созданы друг для друга», – говорит Иван »11).
Комичность ситуации определяется соперничеством отца и сына в борьбе за жену Советника, к которому приехали, чтобы сватать его дочь. Мера чести / бесчестия расценивается оскорбленным Советником, узнавшим истину о жене, деньгами.
Советник .… я знаю, что с сыном вашим делать. Он меня обесчестил; а сколько мне бесчестья положено по указам, об этом я ведаю.
Бригадирша . Как нам платить бесчестье!
Напомни бога, за что?
Советник. За то, моя матушка, что мне всего дороже честь… Я все денежки, определенные мне по чину, возьму с него и не уступлю ни по-лушки12.
Деньги – главная движимая сила для всех «отцов» пьесы (Советника, Бригадира, Бригадирши): обручить бригадирова Ивана и дочь Советника Софью не во имя их счастья, а во имя собственного обогащения, против их воли – цель, которую они преследуют.
Моральный облик двух поколений далек от совершенства. Аморальны и Бригадир, варвар по отношению к жене и сыну, и его сын, считающий измену «безделицей», «пустяком». Аморальность отца и сына, в основе которой лежит неуважение друг к другу, различна по форме выражения, но одинакова по сути.
Комедия Фонвизина называлась «Бригадир и Бригадирша» (о чем свидетельствует «Опыт исторического словаря о российских писателях» Новикова (1772) – очевидно, с целью уже в заглавии обратить внимание читателя на основных героев13. Это не случайно. Бригадиру и Бригадирше «наградой» за их бесчестие становится их сын, как продукт формирующей среды. В подтексте весьма нелестной характеристики родителей, данной Иваном, называющим их «животными», «уродами», заключена авторская концепция «Что посеешь, то и пожнешь». Логическая связь между причиной и следствием обнаруживается не только в сюжетных перипетиях, но и в самих характерах персонажей, вступивших на путь «оскотинивания». Бригадир и Бригадирша лишают себя достойного сына, отдаляя его от себя, определяя свою и его судьбу. Приобщения Ивана к европейской культуре не произошло. Его сознание не стало благодатной почвой для восприятия чужого, высококультурного опыта. Вобрав за время своего пребывания в Париже не лучшие стороны проявления жизни, Иван остался повторением своих родителей, только в ином, манерном варианте.
Путешествие Ивана (лишь обозначенное в тексте как факт свершившегося события) есть отражение в литературе второй половины XVIII века типичной для этого времени продолжающейся попытки освоения чужого пространства. О.М.Гончарова пишет: «если раньше (в средневековой традиции – прим. Э.Р) праведным пространством было русское, а неправедным – западное, т.е. «все не свое мыслится как гре-ховное»14, то теперь, при официально декларированной ориентации на Европу и одновременной устойчивости мышления пространственными категориями, русское, как бы там ни было, могло получать негативные характеристики, а Запад представлялся источником просвещения и разума»15. В комедии Фонвизина отчетливо представлена однозначная оценка в отношении к Западу, показывающая «разрыв между своим и чужим как комическую утрату человеком себя самого»16. Герой комедии «Бригадир» в ориентации на Запад, в неспособности перенять лучшее из европейских и русских достижений человечества оказался потерявшимся в пространстве между своим и чужим, не русским и не европейцем17. У Фонвизина оппозиция своего и чужого нивелируется «наличием особого пространства общечеловеческих нравственных ценностей, универсальных и вечных. Причем познание таких ценностей воспитывает, по мнению писателя, «должную любовь к отечест-ву»18. В своем не постижении общечеловеческих нравственных ценностей как следствии влияния среды, в своей неспособности их самостоятельного освоения «дети» Фонвизина (и в «Бригадире», и в «Недоросле») продолжают начатые «отцами» традиции бесчестия, что стало предметом не только осмеяния людских и общественных пороков, но и предостережения потомкам. Поэтому особое семантическое наполнение приобретает мотив доли с абстрактным, логически устанавливаемым значением. Этот мотив художественно реализуется в обреченности героя на низменное, бездуховное существование.
Фонвизин, всем своим творчеством боровшийся за культуру, за «честь своего класса», в несерьезную форму заключил серьезное содержание: бытовая конкретика выводит читателя на уровень этико-философских размышлений о должном / недолжном, правильном / ложном, вечном / временном. Не обращаясь в тексте к универсалиям чисто философского дискурса, писатель, выражая в комической форме недоумение по отношению к миру, решает вопросы всевременные. Нравственно-философский смысловой пласт присутствует имплицитно и выявляется на метатекстовом уровне. Текст евангельской притчи о блудном сыне и актуальный сюжет Фонвизина в диалоге смыслов и в диалоге вечности и времени выдают образцы с разными полюсами значений – «+» и «-», побуждая читателя задуматься об идеальном и безобразном, о смысле всего сущего.
Изменяются социально-исторические реалии, иными становятся социокультурные условия, а общечеловеческие проблемы сохраняются, как вечно неразрешимые, что и позволяет вести речь о модификациях архетипа, о вечных текстах с текучим содержанием и текучих текстах с вечным содержанием (по Д.С.Лихачеву), о процессе непрестанного смыслопорождения в художественном тексте (по Ю.М.Лотману). Человек в своем сознании и осознании времени всегда погружается в осмысление конфликта духовного и материального, отцов и детей, ухода и возвращения, прозревая и рождая новый взгляд на мир и самого себя.
COMEDY «FOREMAN» BY D.FONVIZIN: DIALOGUE OF TIME AND ETERNITY
Список литературы Комедия Д. И. Фонвизина «Бригадир»: диалог времени и вечности
- Барт Р. Введение в структурный анализ повествовательных текстов//Зарубежная эстетика и теория литературы XIX -XX вв.: Трактаты, статьи, эссе. -М.: 1987. -С.387. Там же. -С.394.
- Радь Э.А. Механизм порождения сюжетных модификаций//Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. -2011. -№1. -С.60 -65.
- Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. -М.: 1998. -С.281.
- Фонвизин Д.И. Собрание сочинений: В 2 т./Сост., подг. текстов, вступ. ст. и коммент. Г.П.Макогоненко. -М.; Л.: 1959. -Т.1. -С.54. Там же. -С.69 и 55. Там же. -С.90.
- Макогоненко Г.П. Денис Иванович Фонвизин (1745 -1792). -М.; Л.: 1950. -С.79.
- Фонвизин Д.И. Собрание сочинений: -Т.1. -С.59.
- Степанов В.П. Фонвизин//История русской литературы в 4-х т. -Т.1. -Л.: 1980. -С. 659 -660.
- Фонвизин Д.И. Собрание сочинений: -Т.1. -С.69. Там же. -С.100.
- Берков П.Н. История русской комедии XVIII в. -Л.: 1977. -С.124.
- Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. -Т.1. -Таллинн: 1992. -С.410.
- Гончарова О.М. Власть традиции и «новая Россия» в литературном сознании второй половины XVIII века: Монография. -СПб.: 2004. -С.17. Там же. -С.19.
- Ключевский В.О. Курс русской истории//Ключевский В.О. Соч.: В 8 т. -Т.5. -М.: 1958. -С.183 -184.
- Гончарова О.М. Власть традиции …. -С.24.