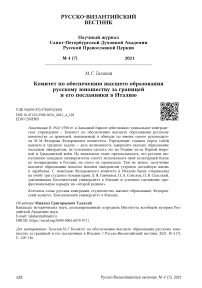Комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей и его посланники в Италию
Автор: Талалай Михаил Григорьевич
Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald
Рубрика: Памятные даты России. К 100-летию русского исхода (1920-2020)
Статья в выпуске: 4 (7), 2021 года.
Бесплатный доступ
В 1922-1930 гг. в Западной Европе действовало уникальное эмигрантское учреждение - Комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей, называемый в обиходе по имени своего руководителя М. М. Федорова Федоровским комитетом. Учреждение ставило перед собой важную и трудную задачу - дать возможность завершить высшее образование молодым эмигрантам, не успевшим сделать это на Родине из-за Первой мировой и Гражданской войн. На начальном этапе предполагалось, что русские выпускники западных университетов смогут использовать свой культурный багаж по возвращению в Россию, но этого не произошло. Тем не менее, получение высшего образования помогло многим эмигрантам устроить достойную жизнь в зарубежье. С помощью Федоровского комитета в Италию были отправлены на учебу три студента-гуманитария: Л. Я. Ганчиков, П. А. Соколов, П. В. Спасский, закончившие Католический университет в Милане и успешно сделавшие профессиональную карьеру на «второй родине».
Русская эмиграция, студенчество, высшее образование, федоровский комитет, католический университет в милане
Короткий адрес: https://sciup.org/140294121
IDR: 140294121 | УДК: 94(470-87):378(091)(450) | DOI: 10.47132/2588-0276_2021_4_128
Текст научной статьи Комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей и его посланники в Италию
Комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей, возникший в 1922 г. в Западной Европе, с центром в Париже, — одно из интереснейших учреждений «первой волны» русской эмиграции, которая в очередной раз придала этому начинанию государственные характеристики: эмигранты заботились об университетском образовании своего юношества.
Основные усилия Комитета были посвящены поиску университетских мест для молодых эмигрантов и соответствующих стипендий для них (или же работы, позволявшей студентам учиться). Новая задача эмигрантов, при отсутствии родной почвы, могла осуществиться только при опоре на возможных зарубежных благотво- рителей и на заинтересованные структуры: такой поиск и последующее сотрудничество с выявленными субъектами составляли стержень деятельности Комитета.
Внимание Комитета было обращено на тех молодых людей, которые, начав было учиться в российских высших учебных заведениях, оказались вырванными из нормальной жизни войнами (сначала Первой мировой, а затем Гражданской), а позже — беженством. В соответствии

Михаил Михайлович Федоров. Париж, ок. 1925 г.
с духом того этапа Русского зарубежья, предполагалось, что такие студенты, закончив свое образование на Западе, вскоре смогут вернуться на Родину и включиться в процесс ее восстановления после «смутного времени». Этого не произошло, но многие юные эмигранты, получив с помощью Комитета университетские дипломы, смогли затем устроить профессиональную карьеру (увы, вне России) и, в итоге, — достойную судьбу, внеся также свой вклад в развитие Западной Европы.
Комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей сразу после его учреждения стали называть по имени его главного организатора Михаила Михайловича Федорова (Бежецк, 1858 — Париж, 1949) — видного политического и общественного деятеля в дореволюционной России, поставившего свои таланты и знания на службу Русскому зарубежью1. В эмиграции его по праву считали «отцом русского студенчества».
М. М. Федоров, еще в конце XIX в. известный как автор ряда теоретических пу- бликаций по экономическим вопросам и слывший среди современников «бессребреником», сделал было успешную государственную карьеру: с 1903 г. он — управляющий отделом торговли и промышленности Министерства финансов, с ноября 1905 г. — товарищ министра торговли и промышленности, в феврале-мае 1906 г. — управляющий Министерством торговли и промышленности. Однако после падения либерального правительства Витте он «ушел из власти» и вплоть до октябрьского переворота возглавлял совет крупнейшего Азово-Донского банка. При этом Федорову всегда была близка гуманитарная деятельность: в частности, он являлся членом главного управления общества Российского Красного Креста.
В русле Белого движения Федоров, пытаясь объединить либеральные силы, с 1919 г. состоял в Особом совещании при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России А. И. Деникине.
С 1920 г. общественно-политическая работа Федорова продолжилась в эмиграции. Среди ряда фондов, ассоциаций и прочих учреждений его любимым детищем стал Комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей: собрав группу единомышленников с именами и связями, он стал энергично привлекать к программе Комитета видных персонажей и разного рода институции2. В общей сложности Федоровский комитет проработал семь лет — к 1930 г. его деятельность прекратилась: во-первых, опекаемое им юношество повзрослело и трудоустроилось и, во-вторых, утратилась скорейшая перспектива возвращения беженцев на Родину.
Деятельность Федоровского комитета хорошо представлена в архиве Дома Русского зарубежья им. А. И. Солженицына во внушительном Фонде Комитета (№ 13): сюда попали личные дела кандидатов на получение стипендий (их автобиографии, аттестаты гимназий и кадетских корпусов, послужные списки, списки научных работ, личные документы, прошения), а также письма и прошения самого М. М. Федорова к разным лицам и в разные общественные и церковные организации. В Фонде Комитета хранится его переписка с Е. К. Миллером, А. П. Кутеповым, П. Б. Струве, С. Л. Франком и Т. С. Франк, С. Д. Боткиным, А. В. Толстой, С. В. Паниной, Н. И. Татищевым, В. В. Римским-Корсаковым, Ф. Б. Шлиппе, Н. М. Зерновым, П. М. Бицилли, А. С. Левицким, Б. А. Дуровым, А. В. Карташевым, Н. С. Арсеньевым и другими выдающимися представителями русской эмиграции.
Точная статистика по оказанной Федоровским комитетом помощи еще не произведена. Трудно определить, по понятным причинам, и число эмигрировавших российских студентов: предположительно их было более 20 тыс. человек3. Однако известно число тех студентов, которые с помощью Комитета учились в европейских высших заведениях: на 1924 г. их было восемь с половиной тысяч человек. Это составляло чуть менее половины общей массы эмигрантского студенчества: продолжить образование удалось не всем…4
В разных европейских странах Комитет учитывал местную специфику. Так, в католической Италии он решил задействовать потенциал Католической церкви, считая ее идейным союзником антибольшевистской русской эмиграции, несмотря на вековые конфессиональные разногласия между католиками и православными (также и во Франции было налажено сотрудничество с Католической церковью).
Вступивший на ватиканский престол в 1922 г. папа Пий XI был известен как своей высокой культурой (ранее он являлся префектом Амброзианской библиотеки в Милане, затем — Ватиканской библиотеки), так и заботой о гонимых христианах. По его поручению государственный секретарь Св. Престола кардинал Пьетро Гаспар-ри отправил весной 1923 г. послание в Католический университет Милана (Università Cattolica del Sacro Cuore), где выразил желание Ватикана помочь студентам-беженцам из России при поддержке данного университета5. Католический университет им. Святого Сердца [Иисуса] был выбран в качестве адресата неслучайно: учрежденный в 1921 г., он мыслился в Италии как некий «академический» ответ богоборческому вызову современности, который ассоциировался тогда с русской революцией и советской Россией. Коммунистическому соблазну, угрожавшему итальянской молодежи, по мысли инициаторов Католического университета, противопоставлялось высококачественное высшее образование на христианской основе.
О послании кардинала Пьетро Гаспарри в миланский университет знал, вне сомнения, Александр Иосифович Лысаковский (1879–1941), министр-резидент Российской миссии при Св. Престоле, один из тех императорских дипломатов, которые остались после революции на своем посту в Италии. А. И. Лысаковский, привлеченный к проблеме студенчества М. М. Федоровым и его Комитетом, также отправил письмо со своей стороны в Католический университет, испрашивая найти возможность для молодых беженцев не только учиться в Милане, но и проживать там6. Несмотря на то что ресурсы с итальянской стороны еще не были определены, он, по-видимо-му, сообщил в Париж о готовности Католического университета и по согласованию с Федоровским комитетом в октябре 1923 г. выслал в Ватикан список из шести холостых («celibataires») студентов-гуманитариев, в котором значились: Леонид Ганчиков, Виктор Геромский, Александр Покровский, Павел Соколов, Петр Спасский, Александр Терешкович7. В марте 1924 г. он подготовил и выслал уточненный список, сокращенный теперь до трех человек: Ганчиков, Соколов, Спасский8.
Однако прибывших вскоре в Милан студентов (первыми приехали двое: Ганчиков и Соколов), как оказалось, там не ждали: университетское руководство лишь выразило Ватикану свою готовность помочь, не предприняв никаких конкретных шагов. Юноши тогда предъявили в секретариате рекомендательные письма на французском языке, подписанные М. М. Федоровым, председателем «Comité central de patronage de la jeunesse universitarie russe a l’étranger di Parigi», от 27 декабря 1923 г. со следующим содержанием (цитируем одно из писем): «Le sousigné certifie que Monsieur Léonidas Gantchikoff est un des étudiants désigné par le Comité Central de Patronage de la jeunesse universitaire russe à l’étranger à etre favorisé par l’aide que le Saint Père a daigné dans Sa bonté Souveraine à accorder à 4 étudiants russes…» [«Нижеподписанным удостоверяем, что г-н Леонид Ганчиков является одним из учащихся, определенных Центральным комитетом по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей, ради использования помощи, которую в своей державной милости Святой Отец соизволил оказать четырем русским студентам…»]9. К письмам председателя Комитета прилагались схожие по содержанию письма дипломата Лысаковского. Однако в университете заявили, что никакие стипендии или места проживания для русских студентов не выделены и учиться в Италии им невозможно.
Обескураженные юноши чуть было не вернулись обратно во Францию, но в последний момент ректор университета падре Агостино Джемелли изыскал-таки возможность принять их в Милане: из ректорской казны им назначили стипендии, а в качестве жилья была определена ночлежка — благотворительный приют им. кардинала Феррари. Так студенты-эмигранты в 1924 г. начали курсы на филологическом факультете Католического университета10.
Следует прокомментировать, что весь этот эпизод обучения православных юношей в миланском Католическом университете — исключительное событие, т. к. согласно учению Католической церкви вплоть до Второго Ватиканского собора 1960-х гг. православные христиане считались схизматиками, раскольниками.
Из архивных документов видно, что дипломат Лысаковский регулярно спрашивал в приюте Феррари о положении студентов (в отличие от своих денонсированных коллег-дипломатов при итальянском королевстве, которое признало СССР в 1924 г., Лысаковский номинально оставался на своем посту при Ватикане, не признававшем советскую власть). Дипломат получал положительные отзывы о том, что «трое юношей Ганичиков, Спасский, Соколов в течение целого учебного года имели очень хорошее поведение. Я [директор приюта Джованни Росси] также получил информацию от Католического университета, где меня уверили, что они учатся удовлетворительно»11.
Все три студента благополучно получили высшее образование в Италии. Особенно хорошо прослежен дальнейший путь Леонида Яковлевича Ганчикова (1893–1968), автора

Леонид Яковлевич Ганчиков.
Милан, 1930 г.
многих философских и литературоведческих текстов, ставшего в завершение своей академической карьеры заведующим славянской кафедрой в Пизанском университете12.
Защита его диплома в Милане была освещена даже в национальной прессе: «Один из них [русских студентов], Леонид Ганчиков из Твери, первым получил диплом, представив работу о „Фундаментальных принципах религиозной философии Вл. Соловьева“, русского философа, который после посещения Рима обратился в католичество13. Объясняя некоторые лакуны в дипломной работе, лауреат сообщил, что Советы, изъявшие книги Соловьева из общественных библиотек, задержали на границе книги философа, которые, не переведенные на другие языки, студенту пришлось запрашивать на Родине. Этот рассказ, а также другие упоминания о рус-ской жизни [до революции] и о пребывании в Италии Соловьева, в резком контрасте с нынешней ситуацией и с печальным беженским положением русских студентов в Европе, вызвали сочувственную манифестацию со стороны студентов, наполнивших зал. Ректор университета падре Джемелли, вручив от имени короля Италии диплом, выразил свою поддержку и уверенность в том, что русские студенты, потерявшие Родину, всегда могут рассчитывать в нашей стране на дружественную солидарность»14.
Одновременно с Ганчиковым Павел Александрович Соколов (1892–1964) защищал дипломную работу по теме «Францисканский коммунизм и современный коммунизм» — аргумент, необыкновенно важный для католических общественнополитических кругов той поры. Соколов в письме из Италии к М. М. Федорову

Собор св. Александра Невского на улице Дарю в Париже. Современное фото определил свою задачу как «противопоставление христианской общины современному материальному коммунизму»15. Его работа была опубликована в Милане в том же году16. Позднее он переехал на юг Италии, в Апулию, где стал профессором-славистом государственного университета в Бари17.
Петр Васильевич Спасский (1896–1968) выбрал иной путь. В ломбардской столице он, кроме университета, обучался вокалу на курсах при театре Ла Скала и затем стал регентом церковного хора — сначала в самом Милане, при вновь учрежденном эмигрантском приходе, а затем в Париже, при соборе св. Александра Невского на Рю Дарю. Православный хор Спасского, став одной из культурных достопримечательностей Парижа, в 1950–1960-е гг. много гастролировал по Европе, в том числе и по Италии.
В Фонде № 13 архива Дома Русского зарубежья сохранились личные дела всех трех студентов, будущих выпускников Католического университета: помимо новых штрихов к их биографиям (тут в том числе указаны имена их родителей, точные данные о рождении, их эмигрантские адреса), эти дела позволяют лучше узнать механизм собственно «обеспечения высшего образования» для молодых эмигрантов.
Так, в личном деле Павла Соколова присутствует его прошение, составленное 27 марта 1923 г. в качестве «студента 5-го семестра Московского университета» (с этого семестра он был призван в «действующую армию»), на включение в список кан дидатов Комитета. Таковые проше ния заполнялись на бланке, 14-й пункт которого

М. М. Федоров с копилкой для сбора пожертвований, рядом с митрополитом Евлогием (Георгиевским), перед Успенской церковью в Сент-Женевьев-де-Буа, 1939 г.
гласил: «Чем занимаетесь в настоящее время?», на что Соколов ответил: «Физическим трудом, когда его можно иметь»18. В Софии беженец вступил в Союз русских студентов в Болгарии. Несколько писем лично М. М. Федорову он написал уже из Милана.
В персональном деле Петра Спасского сохранился документ Русской академической группы в Болгарии, который удостоверял его как «студента Донского университета в 1918–1919 годах»19. Уже из писем Спасского из Милана можно узнать, что Комитет добился-таки ему и другим двум русским студентам Католического университета стипендий, «предоставленных главой римско-католического вероисповедания»20.
Что касается Леонида Ганчикова, то он долгое время пребывал, вместе со своим братом Евграфом, в Галлиполи, отказываясь от предложений записаться во французский Иностранный легион или же в какие-нибудь жандармерии на Балканах: оба брата мечтали продолжить высшее образование. Их отец, оставшийся в Советской России, служил до 1917 г. в компании Нобеля, поэтому один из документов в Федоровский комитет был составлен 13 февраля 1923 г. в бюро этой компании в Константинополе: его автор, заведующий бюро, писал, что «молодые люди, сыновья старого служащего нашего Товарищества, лично мне известны с лучшей стороны»21. Думается, письмо это было инспирировано самими Ганчиковыми. При этом Евграф Ганчиков, будучи, в отличие от Леонида, «технарем», быстрее получил возможность продолжения образования (в области химической технологии) в самой Франции.
Вероятно, по инициативе братьев Ганчиковых были составлены рекомендации от Русской академической группы в Турции. Одно из них, касающееся Леонида, сообщало: «…При опросе знаний признается Академической группой студентом
Петроградского университета историко-филологического факультета третьего курса <…> по мнению группы может быть рекомендован для принятия в соответствующие иностранные высшие учебные заведения»22.
Обзор этих трех личных дел можно закончить выразительной фразой П. А. Соколова, обращенной к М. М. Федорову: «Моей всегдашней заботой было не посрамить земли русской среди итальянцев»23. Он сумел выполнить свое намерение. Однако сказанное можно отнести и к самому Федорову, и к другим героям этой эмигрантской истории.
Список литературы Комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей и его посланники в Италию
- Ганчиков Л. Я. О путях русского духа. М.: Индрик, 2019.
- Каратоццоло М. Профессор-эмигрант Павел Соколов, между Апулией и Россией // Барградский сборник № 1. М.: Индрик, 2019. С. 169-182.
- Талалай М. Г. Русские студенты-эмигранты в Католическом университете г. Милана в 1920-е годы // Русское зарубежье. История и современность. Вып. VI. М.: ИНИОН РАН, 2017. С. 186-193.
- Федоров М. Между короной и наковальней: Жизнь и судьба царского министра М. М. Федорова: 1858-1949. М.: Русский путь, 2019.
- Sokoloff P. Il comunismo francescano e il comunismo moderno. Milano: C. Ferrari, 1927.