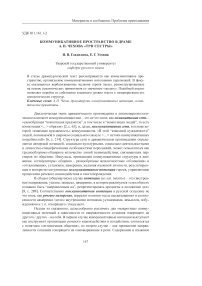Коммуникативное пространство в драме А. П. Чехова "Три сестры"
Автор: Гладилина Ирина Владимировна, Усовик Елена Григорьена
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье драматургический текст рассматривается как коммуникативное пространство, организуемое коммуникативными интенциями персонажей. В фокусе оказываются вербализованные желания героев пьесы, реконструированные на основе семантических примитивов со значением «желать». Подобный анализ позволяет перейти от собственно языкового уровня текста к интерпретации его идеологических структур.
А. п. чехов, драматургия, коммуникативные интенции, семантические примитивы
Короткий адрес: https://sciup.org/146281480
IDR: 146281480 | УДК: 811.161.1-2
Текст научной статьи Коммуникативное пространство в драме А. П. Чехова "Три сестры"
Диалогическая ткань драматического произведения в лингвоперсонологическом контексте коммуникативистики – это не что иное, как номинативная сеть – «своеобразная “композиция предметов”, в том числе и “композиция людей”, то есть композиция <…> образов» [2, с. 65], и, далее, коммуникативная сеть , в основе которой «взаимная нуждаемость» коммуникантов. «В этой “взаимной нуждаемости” людей, понимаемой в широком социальном смысле <…> истоки коммуникативных потребностей» [6, с. 214]. Структура сети в драматическом произведении определяется авторской позицией, социально-культурными, социально-деятельностными и личностно-специфическими особенностями персонажей, может осмысляться как труднообозримо-обширное количество линий взаимодействия, связывающих партнеров по общению. Импульсы, приводящие коммуникативные структуры в движение, «стимуляторы» общения – разнообразные межличностные «сближения» и «отталкивания», установки, намерения, желания языковой личности, результирующие в конкретно-ситуативные коммуникативные интенции героев, управляющие процессами речевого взаимодействия и текстопорождения.
В общем (общенаучном) случае интенция (из лат. intentio ) – это (внутреннее) напряжение, усилие, замысел, намерение, в котором реализуется «способность сознания быть “направленным на”, репрезентировать предметы и положение дел» [8, с. 289]. Соответственно коммуникативная интенция в русской огласовке не что иное, как речевое намерение , коррелят понятия «цель высказывания» в соотнесенности намерения / цели с внутренними мотивами, установками, замыслом, побуждениями и т. п. говорящего / пишущего.
Исходя из сказанного, целесообразно различать два «макротипа» коммуникативных интенций в зависимости от направленности сознания говорящего на другого / других – на себя. В первом случае коммуникативные интенции выступают как инструмент организации речевого взаимодействия и воздействия, соотносятся с понятием «оптимизация общения», во втором случае – как проявление направленности сознания говорящего на самовыражение в речи. Содержание и языковое опредмечивание речи в этом втором случае, с одной стороны, каузируется мотивационными и лингвокогнитивными структурами «я» говорящего (в драматургии – «я» персонажа), с другой стороны, мотивационные и лингвокогнитивные структуры «я» могут исследоваться на основе его речевых проявлений.
Коммуникативные интенции первого типа обладают объемным набором средств языковой / речевой экспликации в тексте, в ряду которых вводные слова, пояснительные, присоединительные, вставные конструкции и т. п. Их удельный вес достаточно велик в эпических произведениях, но в чеховской драматургии они оказываются на периферии.
Коммуникативные интенции второго типа, каузируемые прежде всего потребностями в самовыражении личности, для персонажей Чехова более характерны, их специальное исследование более непосредственно выводит на глубинные (концептуальные, «идеологические») семантические структуры текста, на содержание скрытого пафоса чеховской драматургии, который в рамках данной статьи рассматривается на примере чеховской драмы «Три сестры».
Лингвоперсонологически показательный способ организации диалога в «Трёх сестрах» – «эхо-фраза», ср.:
«Чебутыкин. Бальзак венчался в Бердичеве. ( Читает газету ).
Ирина ( раскладывает пасьянс, задумчиво ). Бальзак венчался в Бердиче-ве» [10, c. 147].
Содержательная сторона включающего «эхо-фразу» диалога чеховских персонажей оказывается десемантизованной, «выхолощенной», поскольку ориентация говорящего на собеседника как неотъемлемый элемент «традиционного» коммуникативного взаимодействия сводится здесь к формальной констатации его присутствия. Диалог персонажей больше напоминает монологические реплики в рамках автокоммуникации, поскольку фразы-реакции не вызывают содержательного встречного отклика, по существу, игнорируются собеседниками. Тематическая близость диалогических реплик – лишь «речевая рамка», фиксирующая нахождение персонажей в одной и той же пространственно-временной точке, не отражающая ни содержание, ни динамику, ни даже сам факт взаимопонимания. Подобный способ сценической коммуникации у Чехова примечательно перекликается со спецификой диалога в постмодернистской парадигме: «…это только по Бахтину литература и жизнь диалогичны, а сейчас каждый при разговоре предъявляет единственно свой монолог» [7].
Не все лингвоперсонологически значимые коммуникативные интенции получают вербальное речевое воплощение; в рамках данной работы центрируем внимание только на так называемых вербализованных желаниях, а именно, в предметном сужении – на словоупотреблениях персонажами «Трех сестер» глаголов с общей элементарной нечленимой семой («семантическим примитивом») ‘хотеть / желать’. Речевое выражение желания изначально соотносится с глагольной лексемой хотеть – базовым средством выражения соответствующего фундаментального семантического примитива как первичного, не поддающегося корректному истолкованию лингвокогнитивного феномена, ср. сообщение А. Вежбицкой, основопо-ложницы теории «семантических примитивов»: «В течение семи лет, потраченных мною на поиски элементарных смыслов, число предполагаемых кандидатов систематически уменьшалось. В настоящее время я придерживаюсь мнения, что их число колеблется приблизительно от десяти до двадцати» [1, с. 237]. В «перечне кандидатов» у Вежбицкой на первом месте – глагол хотеть [Там же].
Идеологему «Желание» ближайшим образом опредмечивают глагольные лексемы мечтать, желать, хотеть . Порядок их перечисления (от мечтать – через желать – к хотеть ) мы предлагаем осмыслять как ступени динамики коммуникации, связанной не только с речевым сообщением, но и с действием, и с движением от абстрактного к конкретному.
Наиболее отвлеченное значение у глагола мечтать – «предаваться мечтам» [9, с. 347], где мечта – «нечто, созданное воображением, мысленно представляемое» [Там же, с. 346], ср.: «Вершинин. Что ж? Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем. <…> Давайте помечтаем … например, о той жизни, какая будет после нас, лет через двести-триста» [10, с. 145] (здесь и далее курсив в цитатах наш. – И. Г., Е. У .).
Мечта в своем интенциональном движении к вещности, предметности получает семантическую конкретизацию в желании («влечение, стремление к осуществлению чего-нибудь, обладанию чем-нибудь» [9, с. 186]). В пьесе представлено только одно автореферентное высказывание подобного типа: «Я желаю вам всего, всего…» [10, с. 183], где глагол желать фигурирует в составе формулы речевого этикета и синтагматически связан с прономиной, лишенной конкретного денотативно-референциального смысла ( всего ).
В ритуализованной этикетной речи форма является главной, единственно существенной «квазисемантической доминантой» [3], – и, в трагифарсовой соотнесенности, в условиях клонящейся к обреченности пустоты бытия именно форма оказывается единственно существенной и для взаимоотношений чеховских героев, что неявно сказывается даже в самообличающем словоупотреблении самогó сущ. форма , ср.: «Кулыгин. Ковры надо будет убрать на лето и спрятать до зимы… Персидским порошком или нафталином… Римляне были здоровы, потому что умели трудиться, умели и отдыхать… Жизнь их текла по известным формам . Наш директор говорит: главное во всякой жизни – это ее форма … Что теряет свою форму , то кончается - и в нашей обыденной жизни то же самое» [10, с. 133].
Модальность реплик персонажей Чехова, как и их жизнь, течет по десеман-тизованным формам: активных жизненных интенций нет (желания отсутствуют), есть только форма - «план выражения», десемантизованная оболочка глагола хотеть . Отметим, что частотность данного глагола в пьесе достаточно велика, но он ни разу не употребляется в значении «стремиться к чему-нибудь, добиваться осуществления, получения чего-либо» [9, с. 856]. Хочу для героев пьесы репрезентирует просто «ощущение потребности в ком- или чем-либо» [Там же], причем в пассивной форме. Контекстуальные смыслы глаголов хотеть и мечтать совпадают, они выступают как синонимы-дублеты, и вся модальность желательности носит у героев характер неосуществимой мечты, разновидности которой можно представить в виде следующего перечня контекстуальных семантических конкретизаций.
-
1. «Хочу в Москву как место, где я мог (могла) бы быть счастлив(а)»: «Маша . Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима. Мне кажется, если бы я была в Москве, то относилась бы равнодушно к погоде…» [10, с. 149].
-
2. «Хочу взаимопонимания, семьи как возможности реализовать свои интенции и быть понятым». В качестве маркера используется сочетание хочется (хочу) чаю (фразы Кулыгина, Вершинина, Чебутыкина).
-
3. «Хочу работать, мечтаю о труде, который совмещал бы “поэзию и смысл”». Данное желание оформляется через отрицание: «Ирина. …не люблю я телеграфа, не люблю. <…> Надо поискать другую должность, а эта не по мне.
-
4. «Хочу жить (быть молодым, чтобы иметь возможность все изменить) и не хочу смерти»: «Тузенбах. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать: “ах, тяжко жить!” – и вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти » [Там же, с. 146]; «Вершинин. Мне ужасно хочется философствовать , такое у меня теперь настроение.<…> Так я говорю: какая это будет жизнь! Вы можете себе только представить… Вот таких, как вы, в городе теперь только три, в следующих поколениях – больше, все больше и больше, и придет время, когда все изменится по-вашему, жить будут по-вашему, а потом и вы устареете, народятся люди, которые будут лучше вас… (Смеется.) Сегодня у меня какое-то особенное настроение. Хочется жить чертовски» [Там же, с. 163].
Чего я так хотела, о чем мечтала, того-то в ней именно и нет. Труд без поэзии, без мыслей…» [Там же, с. 144]; «Ольга . Я не хотела быть начальницей и все-таки сделалась ею [Там же, с. 184]; <…> если бы я вышла замуж и целый бы день сидела дома, то это было бы лучше» [Там же, с. 120, 122].
Философствовать и мечтать выступают как эквиваленты и несут контекстуальный смысл «жить». Но действия нет, поэтому естественны реплики: «Ирина. Не задавайте вопросов… Я устала» [Там же, с. 155]; «Чебутыкин : Утомился я, замучился, больше не хочу говорить» [Там же, с. 187]. Нет активных поступков, действий, угасает даже потребность говорить, что для чеховских героев тождественно остановке / прекращению жизни.
Десемантизация желания маркирована в тексте пьесы конструкциями с частицей если / если бы с узуальным значением желательности, которое контекстуально нивелируется значением предположительности, ассоциируемым с представлением о несбыточности высказываемого: «Но если бы бог привел ему жениться на тебе, то я была бы счастлива» [Там же, с. 168]; «О, если бы не существовать» [Там же, с. 160].
Десемантизированное желание как концептообразующая идеологема образует в пьесе своеобразную рамку, организуя все текстовое пространство драмы, находя выражение в разнообразных контекстуально синонимизирующихся средствах, типа кажется, Бог даст и др., ср.: «Ирина. Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то вдруг стало казаться , что для меня все ясно на этом свете, и я знаю, как надо жить» [Там же, с. 123]; «Ирина. Бог даст , все устроится» [Там же, с. 120].
Следует отметить и «нанизывание» контекстуально синонимичных лексем с указанным концептообразующим смыслом: «Ольга. <…> Все хорошо, все от бога, но мне кажется , если бы я вышла замуж и целый день сидела дома, то это было бы лучше» [Там же, с. 122].
Таким образом, десемантизация лексем с узуальным смыслом ‘хотеть / желать’ составляет лингвоконцептуальный центр коллективной языковой личности чеховских персонажей. Коммуникативные интенции героев семантически пусты, лишены денотативно-референциальной содержательности как «привязки к реальной жизни», а тем более элементов концепта «Высшие формы опыта» [5], языковые / речевые средства репрезентации желаний героев предстают лишь как элементы плана выражения, как пустые словесные оболочки, «формы». Однако эта «чистая форма» чрезвычайно важна для участников коммуникации: «Главное во всякой жизни – это ее форма … Что теряет свою форму , то кончается – и в нашей обыденной жизни то же самое», – говорит Кулыгин [10, с. 133]. По внутренней логике героев «Трех сестер», чтобы жить, надо желать или хотя бы формально выражать желание желать.
Заметим, однако, что отсутствие содержания (семантический ноль) может интерпретироваться и как неактуализованная множественность, потенциальная вариативность смыслов внутри заданной формы. «Форма» задана, и ее ненапол-ненность тревожит воображение читателя / зрителя, побуждает наполнять заданное автором лингвокогнитивное пространство своими смыслами: «…и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем живем, зачем страдаем… Если бы знать! Если бы знать!» [Там же, с. 188]. Жажда содержания роднит персонажей чеховской драмы с владеющими содержанием героями литературы «духовного реализма», обусловливает непреходящую актуальность чеховской драматургии – как в различных аспектах мирового и национально-образовательного значения русской литературы [4], так и в аспектах, связанных с отображением вечного поиска истины и правды как фундаментальной особенности русского менталитета.
Список литературы Коммуникативное пространство в драме А. П. Чехова "Три сестры"
- Вежбицкая А. Из книги «Семантические примитивы» // Семиотика. М.: Радуга, 1983. С. 225-252.
- Волков В. В. Основы филологии. Антропоцентризм, языковая личность и прагмастилистика текста: Курс лекций. Тверь: Тверской гос. ун-т, 2013. 147 с.
- Волков В. В., Волкова Н. В. Семантическая доминанта и семантическое поле как опорные единицы анализа художественного произведения // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 279-283.
- Волков В. В., Гладилина И. В., Скаковская Л. Н. Литература духовного реализма в преподавании русского языка как иностранного // Казанская наука. 2017. № 1. С. 49-54.
- Гладилина И. В., Усовик Е. Г. Языковая репрезентация концепта Высшие формы опыта в произведениях русской литературы XIX-XXI веков // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 1. С. 135-141.
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 216 с.
- Куприянов В. Пастиш о постмодернизме [Электронный ресурс] // Проза.ру. URL: https://www.proza.ru/2016/08/13/910 (дата обращения: 16.08.2019).
- Неретина С. С. Интенциональность // Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М.: Канон; Реабилитация, 2009. С. 289-290.
- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1994. 908 с.
- Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 13. М.: Наука, 1978. 527 с.