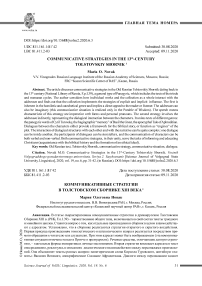Коммуникативные стратегии в Толстовском сборнике XIII века
Автор: Новак Мария Олеговна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 6 т.19, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье охарактеризованы коммуникативные стратегии в древнерусском Толстовском Сборнике XIII в. (РНБ, F.п.I.39) - торжественнике общего типа, включающего в свой состав тексты триодного и минейного циклов. Ставится вопрос о том, как отдельные произведения и сборник в целом взаимодействуют с адресатом. Установлено, что в сборнике реализуются стратегии открытого и скрытого воздействия. Первая присуща произведениям гомилетического и катехизического жанра и реализуется посредством прямого обращения к читателю или слушателю. При этом адресат может быть воображаемым (эта коммуникативная ситуация отмечена только в Притче о премудрости). Речевые средства, отличающие данную стратегию, - глагольные формы императива и личные местоимения. Вторая стратегия вовлекает адресата в текст опосредованно, реализуясь в описаниях диалогического взаимодействия между персонажами произведений. Она объединяет тексты разных жанров: панегирические слова Кирилла Туровского, житийную «память» Василия Великого, апокрифическое Сказание Афродитиана. Диалоги между персонажами задают рамки для изложения библейской истории либо продвигают сюжет. Взаимодействие диалогических структур друг с другом и с нарративом может быть сложным: один диалог может находиться внутри другого, участники диалогов могут быть рассказчиками, общение персонажей может быть как вербальным, так и невербальным. Обе коммуникативные стратегии, в их единстве, служат задачам образования и воспитания христиан (знакомство с библейской историей, в том числе и в занимательной форме, формирование этического идеала).
Древнерусский текст, толстовский сборник, коммуникативная стратегия, коммуникативная ситуация, диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/149131611
IDR: 149131611 | УДК: 811.161.1:81’42 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2020.6.3
Текст научной статьи Коммуникативные стратегии в Толстовском сборнике XIII века
DOI:
Цитирование. Новак М. О. Коммуникативные стратегии в Толстовском Сборнике XIII века // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. – 2020. – Т. 19, № 6. – С. 31–42. – DOI:
Постановка проблемы
С 2018 г. объединенный коллектив исследователей из Москвы, Казани и Ижевска ведет комплексное изучение Толстовского Сборника XIII в. (РНБ, F.п.I.39; далее – Толст), параллельно с подготовкой его электронной публикации на портале «Манускрипт» . За это время в работах участников проекта охарактеризованы графика и орфография памятника [Жолобов, 2018а], грамматика и лексика отдельных произведений в его составе [Пенькова, 2018а; 2018б; 2019а; 2019б; Žolobov, Novak, 2018], их текстология [Новак, Пенькова, 2020] интертекстуальные связи и атрибуция [Новак, 2018; 2019]. С применением лингвостатистических методов было определено типологическое отношение текстов Толстовского Сборника к текстам других жанров, опубликованным на портале «Манукрипт» [Баранов, Жолобов, 2020].
В статье предлагается описание текстов сборника в аспекте прагматики, а именно – их взаимодействия с читателем. Для обоснования такого подхода и задач, возникающих в его рамках, следует остановиться на характеристике состава памятника.
Как отмечает О.Ф. Жолобов, Толстовский Сборник «относится к особому виду книжной продукции в Древней Руси с нерег-ламентированным, оригинальным составом, который определялся, как правило, индивидуальными редакторскими стратегиями и предпочтениями» [Жолобов, 2018в, с. 73]. Заметим, что его состав трудно назвать нерегла-ментированным: сборник можно характеризовать как торжественник общего типа (то есть сборник уставных чтений, который содержит и тексты, посвященные подвижным праздни- кам триодного цикла, и произведения, связанные с непереходящими праздниками) [Черто-рицкая, 1990]. Сборник совмещает в своем составе слова Кирилла Туровского, относящиеся к циклу Цветной Триоди: гомилии в неделю Фомину, о мироносицах, о расслабленном, о слепом, на Вознесение, на собор свв. отец (неделя перед Пятидесятницей), на Пятидесятницу (л. 1–48) – и тексты, связанные с «ми-нейными» праздниками годового круга: Слово на Рождество Христово (25 декабря / 7 января; проповедь-компиляция, атрибутируемая Иоанну Златоусту; л. 49 об.–56 об.), Сказание Афродитиана (апокриф о Рождестве Христовом; л. 56 об.–62), Слово о перенесении Нерукотворного образа в Царьград (16 / 29 августа; л. 62 об.–68 об.) и житийная «память» свт. Василия Великого (1 / 14 января; л. 68 об.– 88 об.). Особое место занимает Слово (Притча) о премудрости (л. 48–49 об.), атрибуция которого Кириллу Туровскому недавно подверглась обоснованной критике [Жолобов, 2018б]. Эта гомилия не привязана к какому-либо событию в церковном календаре.
Огласительные поучения Кирилла Иерусалимского (л. 89 об.–84 об.) представляют собой катехизические беседы, которые в древности проводились во время Великого поста, то есть в период использования в богослужении Постной Триоди [Гаврилюк, 2001]. Таким образом, можно утверждать, что и корпус текстов Кирилла определенным образом связан с церковным календарем, а в композиции Толстовского Сборника «минейные» чтения заключены в кольцо «триодных».
О.Ф. Жолобов говорит о сборнике как о «мегатексте», не комментируя это словоупотребление [Жолобов, 2018в, с. 73]. На первый взгляд, термин больше соответствует литературоведческому дискурсу. Однако суще- ствует широкое определение мегатекста как совокупности текстов, «которые воспринимаются или исследуются как единое дискурсивное целое, пронизанное общими темами, лейтмотивами, архетипами, символами, ключевыми словами, стилевыми приемами» [Эпштейн, 2004]. Оно дает возможность рассматривать древнеславянские сборники, в том числе Толст, как мегатексты: их общие темы и лейтмотивы сопряжены со Священным Писанием, поскольку в них воспроизводятся сюжеты библейской истории и таким образом создается общее смысловое пространство.
В связи с общностью тем и мотивов и возникают вопросы о коммуникативных стратегиях отдельных произведений и сборника в целом. Как мегатекст и его элементы взаимодействуют с читателем? Как читатель вовлекается в диалог с текстом – скрыто или открыто? С помощью каких речевых средств диалоги вписываются в нарратив? Какие сходства и различия разножанровых произведений создают диалогические структуры и, шире, коммуникативные ситуации, в рамках которых автор обращается к читателю? На некоторые из этих вопросов были даны краткие ответы в предварительной публикации [Новак, 2020]; в рамках статьи есть возможность привлечь к анализу более широкий круг текстов.
Итак, в названном аспекте нас будут интересовать: а) приемы воздействия на читателя со стороны автора; б) диалогическое взаимодействие между персонажами произведений сборника; в) взаимодействие диалогических структур с нарративными. При этом будут рассмотрены не все без исключения тексты, но именно те, в которых потенциал коммуникативных ситуаций проявляется наиболее отчетливо.
Результаты и обсуждение
Конструирование диалога с воображаемым собеседником
Стратегия конструирования диалога реализована в Слове (Притче) о премудрости. Среди гомилий сборника это единственное произведение, где на небольшом текстовом пространстве этическое послание к адресату разворачивается как «семейная» метафора, в которой кротость провозглашается матерью мудрости и иных добродетелей, приводящих человека, как своего брата, к отцу – Богу, а превозношение («величание»), ведущее за собой другие грехи, уподобляется мачехе. Для разъяснения этих образов выстраиваются диалоги между проповедником и его воображаемым адресатом: АфЕ будемъ рА^ГН^ВАЛН ШЦА НСКАААВШЕ WДЕЖА КрТвНЫА. ТЫ ЖЕ МН рци КАЫ НСКАЛАХОМЪ. Н А^Ъ ТН ГОв^фАЮ. ГОГНАХОМЪ ГО СЕБЕ мТрВ А МАЧЕХУ ПрНАХОМЪ КНЖЕ НМА ВЕАНЧАНВЕ (л. 48); ТЪ1 ЖЕ МН рЦН. КАКО МОГу ПрНЛТН мТрВ. А ШЦА рА^ГН^ВНВЪ. А ПОрТЪ ХрТъДНЪ1Д НСКААДВЪ. А^Ъ ЖЕ ТА БрАТЕ НАЦЧЮ ПОрТЫ НСКАЛАНЪ1А Н^МЪ1Н. Н ТОГДА ТА ПрННМЕТВ шць (л. 48 об.). Структура «скажи мне (следует предполагаемый вопрос адресата) – и я тебе отвечу / тебя научу (следует разъяснение проповедника)» с участием глагольных форм императива и контрастом местоимений первого и второго лица предполагает формирование активной позиции слушателя / читателя.
Этот момент существенно отличает Притчу о премудрости от произведений гомилетического жанра в целом (с их склонностью к риторическим вопросам, на которые автор может отвечать сам либо не отвечать вовсе) и от слов Кирилла Туровского в частности, где выстроены диалоги не между проповедником и его адресатами, а между персонажами гомилий.
Коммуникативная ситуация и библейская история
В целом ряде произведений Толстовского Сборника используются диалоги между персонажами для создания панорамы провиденциального плана спасения, воплощенного в цепи событий библейской истории, и приобщения читателя к описываемым событиям.
В связи с этой стратегией следует прежде всего упомянуть Слова Кирилла Туровского (хотя мы не ставим задачи рассмотреть все разнообразие коммуникативных стратегий в его гомилиях, поскольку они описаны достаточно детально – ср.: [Бегунов, 1974; Еремин, 1962; Трапезникова, 2011]). Панегирические проповеди Кирилла, предназначенные для произнесения за праздничным богослужением, как нельзя лучше отвечали целям интериори-зации – вовлечения участников церковной службы в празднуемое событие, создания эффекта присутствия внутри священной истории (подробнее см.: [Хондзинский, 2001]).
Еще в 1860-х гг. К.И. Невоструев, подбирая аргументы для атрибуции Кириллу Туровскому «Сказания о черноризском чине», отмечал, что для идиостиля «русского Златоуста» характерно развитие «полных картин», лица которых «говорят и действуют как на сцене» (цит. по: [Баранкова, 2018, с. 234]). Драматическое начало, обусловливающее наличие диалогов между действующими лицами, свойственно тем гомилиям Кирилла, которые основаны на евангельских сюжетах, насыщенных встречами и общением. Это касается Слов на послепасхальные недели – Фомину, о расслабленном и о слепом. Специфика первых двух состоит в амплифицирующем анафорическом построении, когда каждый участник диалога многажды обращается к собеседнику и каждая его реплика открывается гомеоарктеоном, то есть одной и той же речевой формулой. Приведем в качестве иллюстрации цитату из Слова на Фомину неделю:
В^рун ми фомо И ПОГНАН МА аКОЖЕ АВрАМЪ. К НЕМу ЖЕ ПОДЪ С^НЬ СЪ ДВ^МА АНГАОМА ПрИДОХЪ. И ТЪ ПО^НАВЪ МА гА МА НАрЕЧЕ. И ГО СОДОМ^ МОААШЕ МИ СА ДА КГО НЕ ПОГуБАЮ. АфЕ И ДО ДЕСАТИ БЪ!ЛО В НЕМЬ ПрАВЕДНИКЪ. А НЕ БуДИ НЕВ^рЬНЪ АКЪ! ВАЛАМЪ. ИЖЕ Д~МЬ сТмЬ ПрорЕКЪ МОК ^А МИрЪ уМЬрТВИК И ВЪСКрЬСЕНИК. И ПАКЪ! МЬ^ДЪ! рАДИ Пр^АЬСТНВЪ СА ПОГЪ!БЕ. В^руИ МИ фОМО аКО САМЪ А^Ъ КСМЬ. КГОЖЕ ВИД^ ИаКОВЪ ВЪ НОфИ НА Л^СТВИЦИ уТВЬрЖАЮфА СА. В^руИ МИ фОМО аКО А^Ъ КСМЬ. КГОЖЕ WБрАZЪ ВИД^ ИСАИа НА ПрЕСТОЛ^ ВЪ!СОЦ^. WБЬСТОИМА МНОЖЬСТВОМЬ АНГЛЪ. А^Ъ КСМЬ аВИВЪ!И СА К^ЕКИЛЮ. ПОСрЕД^ ЖИВОТНЪ!ХЪ ШБрА^ОМЬ ЧЕЛОВ^ЧЬСКОМЬ <_> (л. 4-4 об.).
Анафорическая формула В^рун ми фОМО с расширением аКО а^ъ ксмь, выделенная и графически, с помощью заглавных букв, задает рамку, внутри которой разворачивается цепь ветхозаветных свидетельств теофании: о явлении трех божественных ангелов (в христианской экзегезе – прообраз Троицы) праотцу Аврааму (Быт., гл. 18), о пророчестве Валаама (Числ., гл. 22), о видении Иакова (Быт., гл. 28), о видении Исаии (Ис., гл. 6), о видении Иезекииля (Иез., гл. 1). При этом библейские тексты не цитируются в прямом смысле слова.
В ответе Фомы анафорическую структуру создают формы относительного местоимения иже , и в каждом отрезке-колоне также упоминаются библейские события, причем ветхозаветные ( рАн насади. и чавка со^да. ИМАЖЕ БЛГОСЛОВИ ПАТрИАрХЪ!. ИМАЖЕ ПОМАДА Цр^ ) соседствуют с евангельскими (помазание ног Иисуса блудницей – Лк. 7: 37–47, воскрешение сына вдовицы – Лк. 7: 12–15, исцеление кровоточивой женщины – Мф. 9: 20–22, Мк. 5: 25–29, Лк. 8: 43–44):
отъв^фа фомА гаа. в^роуЮ ГН аКО САМЪ ТЪ! КСИ ХСЪ БЪ МОИ. W НЕМЖЕ ПИСАША Пр^ЦИ. ДО^рАфЕ ДХМЬ. КГОЖЕ ПрОШБрА^И ВЪ ^АКОН^ МОИСИ. КГОЖЕ ГОвьрГОША СА СЪ ЖЬрЦИ фАрИС^И. КМуЖЕ ПОруГАША СА ^АВИСТИЮ СЪ КНИЖЬНИКЪ! ЖИДОВЕ. КГОЖЕ ШСуДИ СЪ КАИафОЮ НА рАСПАТИК ПИААТЪ. КГОЖЕ БЪ ШЦЬ И^ МЬрТВЪ!ХЪ ВЪСКр^СИ. ВнЖЮ рЕБрА ГО НИХЪЖЕ ИСТОЧИ ВОДУ И КрЪВЬ. воду да ШЧИСТИШН ШСКВЬрННВЪШЮЮ СА ^ЕМЛЮ. И КрЪВЬ ЖЕ ДА ШсТнШИ ЧАВЧЬСКОК КСТЬСТВО. ВнЖЮ руц^ ТВОИ ИМАЖЕ Пр^ЖЕ СТВОрИ ВСЮ ТВАрЬ. И рАИ НАСАДИ. И ЧАВКА СО^ДА. ИМАЖЕ БЛГОСЛОВИ ПАТрИАрХЪ!. ИМАЖЕ ПОМАДА Цр^. ИМАЖЕ ШсТи АПЛЪ!. ВнЖЮ но^^ твои кюже Прикоснувъши СА БЛУДНИЦА Гр^ХОВЪ ГОПуСТЪ ПрнаТЪ. НА НЕЮЖЕ ПрИПАДЪШИ ПЬрВОК ВДОВИЦА. ГО МЬрТВЪ!ХЪ СВОКГО СНА СЪ ДШЕЮ ЖИВА ПрнаТЪ. НАДЪ СИМА НОГАМА КрЪВОТОЧИВАа ПОДЪЛЦ^ рИ^Ъ! ПрИКОСНуВЪШИ СА ИСЦ^Л^ ГО НЕДуГА (л. 5-5 об.).
Похожим образом выглядит диалог в Слове о расслабленном (л. 19–20); его структурируют повторяющиеся формулы Гн ЧЛВКАНЕ ИМАМЬ, ТЕБЕ рАДИ, И ГЛЕШИ ЧАВКА не имамь (две последние образуют рамку в репликах Иисуса). Как и в Слове на Фомину неделю, внутри данной структуры разворачи- вается парафраз библейской истории, в котором также переплетаются отсылки к Ветхому и Новому Завету.
Слово о слепом отличается от предыдущих произведений отсутствием формульных повторов, однако диалоги в нем имеют аналогичное наполнение. Так, в дискуссии книжников и фарисеев одни с негодованием перечисляют «скандальные» поступки Назарянина (и таким образом адресат гомилии знакомится с евангельскими сюжетами), другие указывают на то, что только с помощью Бога человек может исцелить слепорожденного, и ссылаются на ветхозаветные пророчества (л. 27 об.–28 об.). Затем завязывается диалог фарисеев и исцеленного слепорожденного (л. 29 об.–30), в уста которого Кирилл Туровский вкладывает обличения, также отсылающие к событиям Ветхого Завета (лл. 28 об.–30). Это скорее монологи, чем обмен репликами, однако ситуация диалога маркируется автором гомилии: къ соб^ сами прю състававше ГА/оу. Что СТВОрИМЪ ГААИА^аНИНОу СЕМОу неоу (л. 27 об.); дроу^нн же Гл/у ни братик НЕ ХОуАИМЪ ба. ни творнМъ сурово СЪВ^ТА (л. 28-28 об.); Нъ Про^р^въш не wБИнуa сд истину ИМЪ гатв (л. 28 об.).
Важно, что в конце каждой из рассмотренных проповедей Кирилл напрямую обращается к своим адресатам ( Т^мвже БрАТк в^рунМЪ Ху Бу НАШЕМу (л. 5 об.); ПО/ВААИМЪ ПОМИАОВАНАГО БМВ ЧЕЛОВЕКА (л. 31 об.)), а в Слове о расслабленном такое обращение встроено в середину речи Иисуса ( н гла кму СЕ Ц^лъ КСИ КТОМу НЕ СЪГр^ШАИ ДА НЕ ГОрЕ ТИ ЧТО БуДЕТВ. НЪ ДА НЕ МНИМЪ ако тому КДИНОМу СЕ ГЛА /Съ. НЪ ВС^МЪ намъ (л. 21 об.-22)). Это уже иная стратегия -переход с помощью глагольных форм императива от диалогов персонажей к прямой коммуникации с адресатами гомилии, актуализирующий и непосредственно празднуемое евангельское событие, и все предшествующие события библейской истории.
Подобные императивные обращения к адресатам пронизывают Оглашения Кирилла Иерусалимского, где также излагаются различные эпизоды Ветхого и Нового Завета как прецеденты, мотивирующие читателя / слушателя встать на путь подлинно христианской жизни. Например, в Оглашении втором, о покаянии:
пр^трън ПррКА ПОКАаНИЕМВ СПСЕ СД. А ТЪ1 ПОКАЯНИЮ НЕ КМАЕШИ В^рЪ1 ^ ОСТАН!" СД l" ТЪ1 WБЪIЧАИ ПЕрВЪ1Х Гр^/Ъ (л. 96 об.); ЧТО уБО НАВО/ОДОНОСОру ТАКОВАД СТВОрШЮ. I УСПОВ^ДАВШЮ. ДАСТВ ПрОфЕШЕ Y ЦрТвО ^ А ТЕБЕ AI КАЮфЮ НЕ ДАСТВ ПрОфЕН1Д Гр^/ОВЪ (л. 97 об.).
Использование диалога в качестве рамки для изложения библейской истории как реализации провиденциального замысла мы видим и в житийном тексте сборника – «памяти» Василия Великого. В диалоге Василия и его учителя – язычника Еввула – звучат «вечные» вопросы о сути философии и мира. Автор жития отмечает, что беседа заняла много времени (и была, очевидно, настолько важна для собеседников, что они не вспоминали о пище): И три ДНИ БЕ^Ъ аДИ ПрЕБЪ1СТА ВКуП^. СЕБЕ ВЪПрАШАЮфА (л. 71). Однако в тексте приводятся всего два вопроса и два ответа. Первый вопрос и ответ лаконичны: ВЪПросн же и ЕВОуЛЪ ВАСИАВД. ЧТО уСТАВЪ фИАОСОфВД. И СИИ р^Е ПЕрВЪ1И уСТАВЪ фИАОСОфВД. ПОуЧЕНИЕ w СМртн (л. 71).
Ответ на второй вопрос ( н чюдивъ сд пакъ1 рЕЧЕ. что Мнръ ) разворачивается в пространное изложение библейской истории и христианского вероучения (л. 72–77), которое адресовано в равной мере и Еввулу, и читателям. Сначала Василий предлагает собеседнику хронологию от Адама до Константина Великого, упоминая Адама, Ноя, ветхозаветных патриархов Авраама, Исаака и Иакова, Моисея и Аарона, эпоху судей, царей Саула и Давида и, наконец, рождество Христа, а затем переходит к догматическим моментам, начиная от вочеловечения Бога-Слова.
Таким образом, житийный текст также скрыто, через диалог персонажей, обращается к адресату, но, в отличие от гомилетического текста, не «закрепляет» полученный прагматический эффект с помощью прямой коммуникации.
Коммуникативная ситуация как средство создания сюжета
В произведениях сборника с преобладанием нарративного начала диалоги между действующими лицами могут функционировать в качестве двигателя сюжета.
Так, в житии св. Василия, помимо богословской эротапокризы, диалоги задают рамку частному сюжету, который, однако, имеет важный итог. Цепь диалогов разворачивается следующим образом:
-
1. Василий спрашивает Филиксена – сына хозяина гостиницы, в которой они с Ев-вулом остановились на пути в Иерусалим, – о причине его печали; Филиксен, ученик софиста Ливания, озабоченный чрезвычайно трудным домашним заданием, сначала не хочет отвечать, но затем рассказывает обо всем:
-
2. Юноша отправляется к Ливанию; учитель, пораженный искусством, с которым выполнено его задание, расспрашивает Филик-сена о помощнике, однако тот может сказать только, что этот незнакомый путешественник – их постоялец:
-
3. Заинтригованный Ливаний отправляется в гостиницу, находит там Василия и Ев-вула и приглашает их к себе; они погружаются в полемическую беседу, о которой упоминается кратко, в нарративе третьего лица. Затем Ливаний просит Василия побеседовать с его учениками, на что тот немедленно соглашается:
егоже вид^въ Василии рече к нему. что д^лма држулъ еси w оуноше. и wнъ ГОв^фА. да къ1и ми оусп^\ъ Афе пов^д^. прилежАфю же кмоу Г глюфю. ако оусп^ю ти. Г повода ему и СофиСтА Г ГрАНЪ1. ако того Д^ЛМА тужю. Г сии в^емъ грАнъ! и начатъ глати т^уъ преложение (л. 77 об.–78).
и WТрОKЪ приж рАдбуж Сж. и ^АутрА иде к ливанию. Г дасть ему грАнъ! преложение. в^емъ же ливании почетъ въфюдивъ сж Г р^е. та ми виа мъюль. никтоже нъш^шниуъ уъ!трець что сицевъ!\ъ протолковАти можеть. ГОкоуду сии сиуъ поновитель. рече wтрокъ. чюжь н^кто пришедъ в гостиньницю ми. оудовь Скоро протолкоВА ми. Сии Сиуъ СкА^АНие (л. 78).
не л^нивъ же сж ливаиш текъ в гостиньницю. Г вид^ василиж съ еоуломь. и по^навъ въ^диви. <...> молжше а витати имъ в дому его <...> и Авие ливании нача сж стж^ати с нима. и простирАти в^тиискъ,а влжди. сиа же начаста вес^довАти о в^р^
слово. и ливании почюдивъ сж w глем^мь и рече <^> w великомь ми оусп^въ w вАсилие вес^довАти. еже у мене унии не презри иуъ. wнъ же ту Авие съврАвъ оуношА оучАше ж дшю чту не wcквернити. в телесе. уожению кротъкоу <^> при стАръ!уъ молчати. примудр^ишиуъ послоушАти <_> (л. 78-79).
Таким образом, развитие сюжета о помощи Василия Филиксену увенчивается духовно-нравственными наставлениями Василия, которые обращены как к персонажам жития, так и к его читателям.
Реплики собеседников встраиваются в нарратив разными способами. Прямая речь может вводиться непосредственно с помощью глаголов речи (ср. формы ГОв^фА , рече , глюфю ). Однако возможна непосредственная стыковка речи повествователя и персонажа, ср.: Г повода ему и софистА Г грАнъ!. ако того д^лма тужю и ‘рассказал ему о софисте и стихах: из-за этого я печалюсь’.
Апокрифическое Сказание Афродитиана (л. 56 об.–62), повествующее о рождении Христа «глазами» языческого мира, неоднократно становилось предметом самого пристального внимания ученых (подробно о содержании и текстологии произведения см.: [Бобров, 1994; Трифонова, 2015; Veder, 2011]). Коммуникативные ситуации в Сказании также являются основным средством создания сюжета, а их отношения с нарративом сложнее, чем в житии св. Василия. Повествование начинается от первого лица – очевидно, Афродитиана ( се глю, но да^ продолжю слово (л. 56 об.-57)), однако очень быстро рассказчиками (или диегетическими повествователями [Падучева, 2010, с. 203]) становятся сами его персонажи, которые активно общаются между собой, а изнутри их рассказа возникает еще один диалог.
В Сказании можно выделить 10 коммуникативных ситуаций: 1) беседа царя и жреца; 2) беседа «образов» (изваяний в святилище), помещенная в рассказ жреца; 3) диалог жреца с изваяниями; 4) речь Диониса, адресованная как «образам», так и жрецу, и ответ последнего; 5) дискуссия между волхвами, идущими на поклонение младенцу Иисусу, и иудеями в Иерусалиме; 6) диалог волхвов и царя Ирода; 7) диалог волхвов и Девы Марии; 8) разговор Девы Марии с архангелом, который она пересказывает волхвам; 9) обращение волхвов к младенцу Иисусу; 10) обращение к волхвам ангела, предупредившего их о преследовании Ирода.
Приведем в качестве иллюстрации текст, содержащий первые три диалога (Ира – богиня Гера, чье ожившее изваяние и чудесное зачатие прообразует Деву Марию):
вл^ъшю во црю въ кумирницю рд^р^шение сномъ приати. рече жрець прупъ порддую са с товою влко. ирд ^дчдлд есть въ оутров^. црь же wcклдвивъ са рече кму. оумеръшиа ди въ оутров^ имдть. мнъ же рече ки оумершиа wжилд есть. црь же рече что се ксть скджи ми. жрець рече истиною влко годъ присп^лъ есть сд^ всю во нофь превъ1шд мврд^и ликъствуюфе. мужескъ wврдzъ и женескъ. глюфе сдми к сов^. ходите дд са рддуимъ съ ирою ако въ^лювленд въ1. д^ъ же реко\ъ кто имдть въ^лювити не соуфюю wни же глдху wжилд есть. и потомь не ндречеть са ирд но оурдниА. великое во слнце въ^лювило ю есть. женьстии к мужескъ1мъ глху. ако похвдлАюфе д^ание (л. 57-57 об.).
Налицо своего рода «матрешка»: жрец рассказывает царю ( рече жрець прупъ -црь же рече - жрець рече ) о разговоре «образов» ( глюфе сдми к сов^. ходите дд са рддоуимъ ), в который встроен его собственный диалог с изваяниями ( д^ъ же рекохъ -wни же глдху ).
Как и в случае с житием свт. Василия, возникает вопрос о языковых средствах, функционирующих в этом сложном единстве. Заслуживают внимания следующие моменты.
Не все упомянутые коммуникативные ситуации содержат прямую речь: так, диалог волхвов с Иродом передан в нарративе первого лица (от лица волхвов ведется значительная часть повествования): црю же жидовьску приведъшю нъ1 к севе и глдвъшю к ндмъ и въпрдшдвшю. ГОв^фдхомъ к нему. w немже и въ^мути са wтинyдь. и ГОидохомъ ГО него не послушдвъше кго дки рАдникд (л. 60 об.–61). В этом косвенном описании использованы формы не только глаголов речи ( глдвъшю , въпрдшдвъшю , ГОв^фдхомъ ), но и глаголов эмоциональной сферы ( въ^мути са ).
В диалоге волхвов и Марии, а именно при вводе реплик волхвов, наблюдается эллипсис глагольных форм, который придает эпизоду дополнительную экспрессию: i рекохомъ к мдтери кдко са про^ъ1вдеши преслдвнда мти. wнд же р^е мриА. и мъ1 ГОкуду чддо. wнд же рече ГО вифлewмьcкъlА вси. мъ1 же им^ ли мужд. wнд же ГОв^фд точью wвtфднд въ1хъ (л. 61). Следует отметить, что в пространных версиях Сказания, опубликованных не так давно И. Трифоновой (по южнославянским спискам XVI–XVII вв., хранящимся в софийской НБКМ и Национальной библиотеке в Варшаве), эллипсиса нет и повторяются формы р^хомъ, рекохомъ и глдхwм [Трифонова, 2014, с. 143; 2015, с. 85].
В диалоге Марии с архангелом прямая речь вводится менее частотными глаголами: приде дрхнглъ влгов^стуа мн^ преслдвно рожение н^кое. и въ^пихъ никдко же дд не вудеть мн^ ги. мужд во не имдмъ. и и^в^фд ми ако и^волениемь виемь. сего рожение им^ти (л. 61). Форма въ^пихъ подчеркивает эмоциональное состояние Марии, и^в^фд - важность благовестия.
Наконец, чрезвычайно интересна коммуникативная ситуация «волхвы – младенец Иисус», в которой соседствуют вербальные и невербальные элементы:
и в^А wтрочд кожьдо ндсъ и подержд нд руку. и поклоншеса ему и ц^ловдвше ддхомъ ему ^лдто и ливднъ и ^мюрну. рекуфе ему тев^ творимъ люве^н^ и чтемъ та нвнъ1и ice. индко не въ1шд оустроенд въ1лд неоустроенда. дфе въ1 тъ1 не пришелъ <_> wтрочд же см^аше са и плескдше хвдление им^а словесъ ндшихъ (л. 61 об.-62).
Речь волхвов, обращенная к Богомладен-цу, обрамлена невербальными знаками, среди которых и ответное одобрение маленького Иисуса, еще не умеющего говорить ( см^аше са и плескдше ‘смеялся и хлопал в ладоши’).
Выводы
Описанные разнообразные коммуникативные ситуации можно свести к двум стратегиям. Первая демонстрирует открытое обращение к адресату, при этом в роли последнего может быть как реальный читатель / слушатель текста, так и воображаемый собеседник (Притча о премудрости). Маркерами апелляции к адресату выступают глагольные формы императива и личные местоимения. Данная стратегия характерна для гомилетических и катехизических произведений сборника.
Вторая стратегия – скрытое воздействие на адресата – выстраивает коммуникативные ситуации с вовлечением в них персонажей. Это позволяет, с одной стороны, задать рамки для развертывания панорамы библейской истории, с другой – обеспечить движение сюжета. Данная стратегия объединяет гомилетические и катехизические произведения с агиографическим и повествовательным жанрами. Именно в ходе реализации второй стратегии складываются сложные отношения диалогических структур и нарратива: диалоги могут встраиваться друг в друга; участники диалогов могут становиться рассказчиками; наряду с вербальными составляющими в коммуникативной ситуации могут появляться и невербальные.
Обе стратегии создают цельное смысловое пространство сборника, служа христианскому образованию (знакомство адресата с библейской историей, в том числе и в форме занимательного апокрифического повествования) и воспитанию (интериоризация библейских событий, формирование у адресата этического идеала жизни по евангельским заповедям) в их тесном единстве.
Список литературы Коммуникативные стратегии в Толстовском сборнике XIII века
- Баранкова Г. С., 2018. К вопросу об авторстве сочинений, приписываемых святителю Кириллу Туровскому (на материале «Поучения о под-визе иноческого жития») // Палеоросия. Древняя Русь: во времени, в личностях, в идеях = ПаХаюрюта: ev xpovra, ev просюпю, ev eiSei. № 1 (9). С. 233-248. DOI: 10.24411/ 2618-96742018-10014.
- Баранов В. А., Жолобов О. Ф., 2020. Лингвостатис-тическое исследование частотных слов в Словах Кирилла Туровского (по рукописи РНБ, F.n.I.39) // Slovene. Vol. 9, № 1. C. 29-80. DOI: 10.31168/2305-6754.2020.9.1.2.
- Бегунов Ю.К., 1974. К стилистике торжественного красноречия: Кирилл Туровский и Григорий Цамблак // Търновска книжовна школа. Международен симпозиум (Велико Търно-во, 11-14 октомври 1971). София : Изд-во БАН. С. 39-52.
- Бобров А. Г., 1994. Апокрифическое «Сказание Афродитиана» в литературе и книжности Древней Руси. Исследование и тексты. СПб. : Наука. 167 с.
- Гаврилюк П. Л., 2001. История катехизации в древней церкви. М. : Изд-во Свято-Филаретовского ин-та. 320 с.
- Еремин И. П., 1962. Ораторское искусство Кирилла Туровского // Труды Отдела древнерусской литературы / отв. ред. Я. С. Лурье. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР. Т. 18. С. 50-58.
- Жолобов О. Ф., 2018а. О контрастирующих орфографических системах в рукописи XIII в. (к интернет-изданию Толстовского сборника) // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. № 3 (73). С. 77-89.
- Жолобов О. Ф., 2018б. Слово-притча о премудрости в списках XII-XVI вв. // Научное наследие B.А. Богородицкого и современный вектор исследований Казанской лингвистической школы. В 2 т. Т. 1 : тр. и материалы Между-нар. конф. (г. Казань, 14-17 окт. 2018 г.) / под общ. ред. Е. А. Горобец, О. Ф. Жолобова, М. О. Новак. Казань : Изд-во Казан. ун-та. C. 85-90.
- Жолобов О. Ф., 2018в. Толстовский сборник XIII в. как мегатекст // Лингвокультурологические исследования развития русского языка в условиях полиэтнической среды: опыт и перспективы. В 2 т. Т. 2 : тр. и материалы Между-нар. конф. (г. Казань, 1-4 окт. 2018 г.) / под общ. ред. К. Р. Галиуллина, Е. А. Горобец, Э. А. Исламовой. Казань : Изд-во Казан. ун-та. С. 73-77.
- Новак М. О., 2018. Библейские цитаты в Толстовском Сборнике XIII века // Лингвокультуро-логические исследования развития русского языка в условиях полиэтнической среды: опыт и перспективы. В 2 т. Т. 2 : тр. и материалы Междунар. конф. (г. Казань, 1-4 окт. 2018 г.). Казань : Изд-во Казан. ун-та. С. 140-143.
- Новак М. О., 2019. Слово на Рождество Христово в Толстовском Сборнике XIII в.: лингвотексто-логическая характеристика // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2, Языкознание. Т. 18, №> 4. С. 6-17. DOI: https://doi.org/10.15688/тгоки2.2019.4.1.
- Новак М. О., 2020. Диалог с читателем: вопросы и ответы в Толстовском Сборнике XIII века // X Римские Кирилло-Мефодиевские чтения : материалы конф. (Рим - Пиза, 3-9 февр. 2020 г.). М. : Индрик. С. 106-110.
- Новак М. О., Пенькова Я. А., 2020. Огласительные поучения Кирилла Иерусалимского в Толстовском Сборнике XIII в. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. №> 3 (81). С. 108-118. DOI: https://doi.org/10.25986/IRI.2020.16.19.009.
- Падучева Е. В., 2010. Семантические исследования : Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива. 2-е изд., испр. и доп. М. : Яз. слав. культуры. 480 с.
- Пенькова Я. А., 2018а. Об употреблении претери-тов в первом славянском переводе с греческого Сказания Афродитиана // Славянский мир: язык, литература, культура : материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 28-29 нояб. 2018 г.) / [редкол.: М. Л. Ремнева [и др.]]. М. : МАКС Пресс. С. 244-248.
- Пенькова Я. А., 2018б. Сказание Афродитиана в Толстовском Сборнике XIII в.: лексическое своеобразие и проблема локализации перевода // Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». Т. 160, кн. 5. С. 1059-1068.
- Пенькова Я. А., 2019а. О некоторых архаичных конструкциях в Легенде об Авгаре по Толстовскому списку XIII в. и Сказании о Борисе и Глебе по Успенскому списку XII-XIII вв. // И. А. Бо-дуэн де Куртенэ и мировая лингвистика : Международная конференция: VII Бодуэнов-ские чтения (Казан. федер. ун-т, 28-31 окт. 2019 г.). В 2 т. Т. 1. : тр. и материалы. Казань : Изд-во Казан. ун-та. С. 181-186.
- Пенькова Я. А., 2019б. Редкая лексика легенды об Ав-гаре в Толстовском Сборнике XIII в. // Русистика в XXI веке: тенденции и направления развития : сб. ст. Междунар. науч. конф. Ереван : Изд-во ЕГУ С. 204-209.
- Трапезникова О. А., 2011. Цитата как актуализатор авторской интенции в древнерусском тексте (на материале торжественных слов Кирилла Туровского) // Вестник Томского государственного педагогического университета. Вып. 3 (105). С. 27-33.
- Трифонова И., 2014. Narratio АрЫМШат или Сказание на Афродитиан за чудото, което стана в персийската земя (Издание на текста по НБКМ №№ 432 от XVI век) // Годишник на Асо-циация за антропология, етнология и фолк-лористика «Онгъл». J№ 13 : Име и святост. София : ROD. С. 130-148.
- Трифонова И., 2015. Сказанието на Афродитиан -нови данни за ръкописната традиция на текста (преписът в Сборник Aks.2743 от Народната библиотека във Варшава) // Palaeobulgarica. Т. XXXIX, №> 3. С. 71-96.
- Хондзинский П., 2001. О богословии гимнографи-ческих форм // Журнал Московской Патриархии. №> 12. С. 66-82.
- Черторицкая Т. В., 1990. Торжественник и Златоуст в русской письменности XIV-XVII вв. // Методические рекомендации по описанию славяно-русских рукописных книг. Вып. 3. Ч. 2. М. : Ин-т славяноведения и балканистики АН СССР. С. 329-381.
- Эпштейн М., 2004. Философия языка (2). Проективный словарь философии. Новые понятия и термины // Топос. Литературно-философский журнал. URL: https://www.topos.ru/article/3031 (дата обращения: 29.08.2020).
- Veder W., 2011. The Slavonic Tale of Aphroditian: Limitations of Manuscript-Centred Textology // Търновска книжовна школа. Т. 9. Велико Търново : Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий». С. 344-358.
- Zolobov O., Novak M., 2018. Verb Forms Functioning in Cyril Turovskij's Homilies (In Comparison to the Tale of Igor's Campaign) // Zeitschrift fflr Slawistik. Vol. 63, №№ 1. P. 74-89. DOI: https:// doi.org/10.1515/slaw-2018-0004.