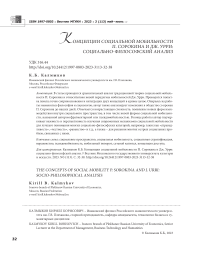Концепции социальной мобильности П. Сорокина и Дж. Урри: социально-философский анализ
Автор: Калмыков К.Б.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Философия и теория культуры
Статья в выпуске: 3 (113), 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится сравнительный анализ традиционной теории социальной мобильности П. Сорокина и относительно новой парадигмы мобильностей Дж. Урри. Проводится попытка поиска точек соприкосновения и интеграции двух концепций в единое целое. Опираясь на работы знаменитых философов и социологов, автор также анализирует изменения в обществе со времен П. Сорокина до наших дней. Отмечается возрастающая сложность, появление новых форм взаимодействия внутри социального пространства, в том числе новой формы социальной мобильности, названной автором фрагментарной или псевдомобильностью. В конце работы автор подчеркивает важность и перспективность изучения современных механизмов социальной мобильности для лучшего понимания многих социально философских категорий, например, таких как «справедливость», «честность», «равенство» и т.д., а также для решения многих острых социальных проблем, связанных с ними.
Социальное пространство, социальная мобильность, социальная стратификация
Короткий адрес: https://sciup.org/144162777
IDR: 144162777 | УДК: 316.44 | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-3113-32-38
Текст научной статьи Концепции социальной мобильности П. Сорокина и Дж. Урри: социально-философский анализ
Согласно философскому концепту «все живет, все меняется» не стоит на месте и понимание социальной мобильности. «Классическая» теория П. Сорокина, безусловно, не потеряла актуальности, однако усложнение структуры общества и происходящих в нем процессов привело к возникновению новой парадигмы мобильностей Дж. Урри. Данная статья посвящена анализу двух этих концепций.
Понятие социальной мобильности было введено в научный оборот одновременно с понятием социальной стратификации в первой половине ХХ века П. Сорокиным. Он определяет социальную мобильность как перемещения индивидов внутри социального пространства [7, c. 1].
Говоря о социальном пространстве, автор определяет его как «некую вселенную, состоящую из людей, живущих на Земле». Там, где нет людей или же есть только одни человек, социального пространства не существует [7, c. 3]. Таким образом, социальное пространство созвучно с понятием «общество». В современной социологии обоснованность использования термина «общество» ставится под сомнение, так как он был создан в эпоху модерна и в традиционной трактовке не может быть использован в постмодернистской парадигме. А. Турен выдвигает идею о «социологии без общества». Поскольку ус- ловий, породивших идею общества, больше нет, должен перестать существовать и сам термин, а, следовательно, и сама социология должна искать новый предмет и объект. Сам автор видит объект в изучении ситуаций, в которых институционализированные формы обращения к субъекту и уважение его/ее потребностей успешно позволяют создать зону мира и творчества в среде агрессивных форм групповых интересов и такой рыночной экономики, которая разрушает все формы социальной, политической, культурной и автономной жизни [8]. Менее радикально настроенные ученые переходят к «пространственной» трактовке термина «общество». Трактовка общества как пространства сетей встречается, например, в работах М. Кастельса. Он отмечает, что важнейшие процессы, происходящие в обществе, все больше оказываются организованными по принципу сетей. Огромную роль в этом играет пространство интернета [4, c. 494–505]. Таким образом, подход к определению мобильности через пространство, а не общество видится автору данной работы удачной идеей.
Социальное пространство неоднородно. Все его элементы распределены относительно друг друга. Таким образом, часть из них находится примерно на одном уровне, в то время как другая выше или ниже. Процесс дифференциации некой совокупно- сти людей на иерархически соподчиненные классы П. Сорокин называет социальной стратификацией и доказывает, что любая группа в той или иной степени стратифицирована. Признавая многочисленность форм социальной стратификации, Сорокин, тем не менее, сводит ее к трем основным: экономической, политической и профессиональной, аргументируя это тем, что большинство других форм социального расслоения могут быть, в конечном счете, включены в одну из них [7, c. 9–10]. Подобная редукция едва ли применима к современному социуму. Сложность и динамичность общества постмодерна рождают множественные основания для стратификации, которые уже не могут определяться как одна из трех вышеуказанных. Современный взгляд на стратификацию общества изложен, в частности, в работах П. Бурдье. В них социальное пространство понимается как комплекс отношений, объединяющих и разделяющих людей символически и физически. Символическое разделение приводит к разделению физическому, когда жизнь представителей различных общностей (этнических, религиозных, профессиональных и т. д.) концентрируется в разных регионах, районах, кварталах, зданиях и т. п. Благодаря этому внутри социального пространства формируются особые сферы практик – поля [3, c. 73–75]. Таким образом, то, что Сорокин называет типами стратификации, П. Бурдье называет полями. Внутри каждого поля идет борьба за достижение более высоких позиций, и в итоге победителем оказывается тот, кто обладает большим количеством капитала. Помимо материальных ресурсов (экономического капитала) для достижения успеха также необходим культурный капитал (в первую очередь, образование), а также – социальный капитал (в первую очередь, связи). Наиболее «весомым» в современном обществе П. Бурдье считает экономический капитал [3, c. 73–75]. Британский социолог Дж. Урри в своих работах подчеркивает важность социального капитала, а также вводит еще один вид капитала – сетевой. Ученый определяет его как способность порождать и поддерживать социальные отношения с людьми, не обязательно находящимися в географическом соседстве, но получающими от этих отношений выгоду. Индивиды и социальные группы, обладающие большим сетевым капиталом, имеют существенные преимущества в процессе структурирования социальных связей и получения от них различных выгод. Таким образом, наличие или отсутствие данной формы капитала рождает новую систему неравенства [9, c. 360–362].
Социальная стратификация неизбежна. Опыт СССР показал, что идеи бесклассового общества могут существовать только на бумаге. Попытки реализовать их на практике обречены на провал. Однако в этом вопросе также есть нюансы, а именно – разница между объективным положением человека в обществе и его личным восприятием своего положения. Так, например, сильная идеологическая основа коллективизма, культура, направленная на формирование в сознании людей принципов равенства, являлись инструментами, благодаря которым большинство советских граждан считали себя не лучше и не хуже других. Кроме того, культурное противопоставление западу формировало такие понятия как «советский человек», «гражданин Советского Союза» и т. п. За этими терминами скрывается сильный культурный код, обусловливающий модели поведения. Для многих членов советского общества именно данные термины были определяющими, когда речь шла о социальном положении. Страны Советов нет уже более тридцати лет, но для многих из тех, кто жил в ней, сформированные тогда социокультурные модели поведения являются доминирующими в сознании и до сих пор реализуются на практике.
Если в СССР социальную стратификацию пытались преодолеть путем формирования в сознании людей принадлежности к советскому обществу в целом, то в современном мире идея бесклассовости трансформировалась в осознание своей принадлежности к тому или иному социальному слою. Такой трансформации, безусловно, способствовало развитие общества потребления. Культура общества потребления существенным образом влияет на все социальные процессы, в том числе на процессы стратификации и мобильности.
Идея того, что обладание теми или иными вещами дает основание причислять себя к слою людей, обладающих такими же вещами, пускай и более лучшего качества, сформировалась именно под влиянием общества потребления. Г. Маркузе отмечает формирование «одномерного человека» в процессе развития общества потребления [6, c.12–14]. Навязывание ложных потребностей приводит к тому, что их перечень становится приблизительно одинаковым для всех, а общественное производство с радостью готово их удовлетворять. Таким образом, в некотором роде стираются разделения между классами в общественном сознании. Обладателю недорогого смартфона нет причин считать свое положение существенно ниже тех, кто имеет более дорогие гаджеты. В его сознании сам факт обладания вещью уже уравнивает его с представителями более высоких слоев.
Безусловно, объективных оснований отождествления тех, кто обладает последней моделью айфона или самсунга, и тех, кто имеет недорогие смартфоны, – с точки зрения экономической стратификации – нет. Таким образом, общество потребления лишь навязывает иллюзию равенства и при этом в значительно степени способствует тому, что можно определить как псевдомобильность [10, c. 96].
Помимо определения мобильности через социальное пространство, Сорокин также дает более подробное определение: это «любой переход индивида, социального объекта или ценности, созданной или модифицированной благодаря деятельности от одной социальной позиции к другой». В соответствии с двумя измерениями социального пространства он выделил два типа – вертикальную (восходящую и нисходящую)
и горизонтальную мобильность, а также два вида – индивидуальную и групповую [7, с. 119–126]. Понятие псевдомобильности относится к вертикальному типу и, с точки зрения автора данной работы, может пониматься как частичный, фрагментарный переход с одной социальной позиции на другую. Псевдомобильность проявляется в копировании внешних атрибутов вышестоящего класса без достаточных объективных условий для этого (большинству знаком тип людей, представленный в романе «Двенадцать стульев», в образе «Эллочки-людоедки»).
Наличие явления фрагментарной мобильности (термин автора) или же псевдомобильности могут объясняться несколькими причинами.
Во-первых, проблема заключается в том, что имея установку на осуществление социального восхождения, которая активно транслируется в социуме через лозунги равных возможностей, многие индивиды сталкиваются с ситуациями, гораздо более жесткими. Характеризуя реальные перемещения в вертикальном направлении в современном обществе, известный французский социолог Ж. Бодрийяр пишет: «Социальная траектория, за малым исключением, оказывается достаточно короткой, социальная инертность весьма ощутима, всегда остается возможность для регресса» [2, c. 22].
Во-вторых, это феномен преобладания внешней символики статуса над его внутренним наполнением, а также «культ вещей» в современном социуме [10, c. 94–95]. Видя свое «поражение» в ходе социального подъема, индивид, в первую очередь, старается сравняться с вышестоящим классом в наличии определенных вещей, которые внешне будут демонстрировать его успех. Ж. Бодрий-яр пишет: «Предметы, их синтаксис и их риторика отсылают к определенным социальным целям и социальной логике. Поэтому они говорят не столько об их пользователе и технических практиках, сколько о социальных претензиях…» [1, c. 20] Вместе с вещами будут также перениматься и некоторые поведенческие аспекты желаемого класса, опять же без достаточных на то объективных оснований.
Таким образом, три взаимосвязанных явления объясняют феномен фрагментарной мобильности (псевдомобильности): не оправдавшиеся надежды на социальное восхождение, преобладание внешней символики статуса над его внутренним содержанием и существование «культа вещей» в современном обществе потребления.
На структуру мобильности, помимо вышеуказанных особенностей современного общества, существенное влияние оказывает его усложнение. В докладе на пленарной сессии Х Конференции Европейской социологической ассоциации (Швейцария, Женева, 2011) Дж. Урри предложил три новых поворота – сложности, мобильности и ресурсный поворот. С. А. Кравченко выделяет следующие тенденции, обуславливающие необходимость поворотов [5]:
-
1. «Переход к « глобальной дезорганизации » и сложности».
-
2. «Образование глобальных сетей, существующих вне конкретных обществ».
-
3. «Технологические, организационные, коммуникативные инновации, трансформировавшие даже такие фундаментальные понятия как пространство и время».
Следует отметить, что созданная совершенно при других условиях теория социальной мобильности П. Сорокина, безусловно, отличается от парадигмы мобильностей Дж. Урри, но в целом остается актуальной, хоть и требующей определенных дополнений, в первую очередь, с точки зрения мобильного поворота.
Дж. Урри определяет поворот мобильности как новый тип мышления, исходящий из того, что все социальные образования находятся в постоянном движении [5, c. 68]. В рамках данного поворота ученый предлагает направить фокус внимания на изучение мобильностей. Мобильность, с точки зрения ученого, – реальные и потенциальные перемещения в их связи с социальными отношениями в пространстве и времени [9, c. 16–21]. Ученый выделяет пять типов взаимосвязанных мобильностей:
-
1. Телесные перемещения людей.
-
2. Физические перемещения объектов.
-
3. Воображаемые путешествия, осуществляемые через различные печатные или визуальные носители информации.
-
4. Виртуальные перемещения (часто в реальном времени).
-
5. Коммуникационные путешествия (с помощью средств коммуникации) [9, c.135].
Можно выделить некоторые существенные различия в понимании мобильности П. Сорокиным и Дж. Урри. Во-первых, если П. Сорокин, по большому счету, видит в мобильности инструмент для смены социальной структуры, то Дж. Урри рассматривает мобильность как комплексною систему и ставит ее во главу своей концепции. Во-вторых, П. Сорокин рассматривает мобильность как факт и анализирует различия между положением «А» и положением «Б». Дж. Урри, напротив, рассматривает мобильность процессуально и отмечает то влияние, которое процессы перемещений оказывают на социум. В-третьих, внимание П. Сорокина в большей степени приковано к изучению вертикальной мобильности, в то время как Дж. Урри в большей степени изучает то, что в теории Сорокина называется горизонтальной мобильностью.
Кроме того, в рамках мобильного поворота, Дж. Урри отмечает, что если раньше мобильности предполагали иерархизацию социума согласно двум, выделенным Сорокиным, направлениям – вертикальному и горизонтальному, то теперь возникли сетевые мобильности, существующие вне контекста традиционной социальной стратификации. Если раньше мобильности были в той или иной степени структурированы, то теперь появились неструктурированные мобильности в виде потоков (людей, денег, информации, знаний, рисков и т. д.), которые практически не контролируются государствами. Также в современном «подвижном» мире крайне важным становится наличие у человека возможности перемещаться («права на мобильность»). Отсутствие такой возможности существенно ограничивает потенциал человека. Таким образом, доступ к средствам перемещения и коммуникации является новым основанием для социальной стратификации. [5, c. 70–72]. В основе концепции доступа заложено вышеописанное понятие сетевого капитала. Именно через него можно найти точки соприкосновения теории П. Сорокина и парадигмы Дж. Урри. Также с определенными оговорками можно считать схожими понятие «канал социальной мобильности» П. Сорокина и «система социальной мобильности» Дж. Урри. Под каналами социальной мобильности П. Сорокин понимает социальные институты, обеспечивающие социальную циркуляцию в обществе. Важнейшими из них автор называет армию, школу, церковь, политические, экономические и профессиональные организации [7, с. 149]. Дж. Урри определяет систему мобильности как комплекс социальных отношений и материальной инфраструктуры, который делает определенный вид перемещения возможным, предсказуемым, доступным широкому кругу людей и объектов [9, c. 24]. В своей работе «Мобильности» ученый выделяет и дает подробное описание различных систем мобильностей: пешего перемещения, желез- нодорожного транспорта, автомобильности, авиамобильности, виртуальной мобильности.
Принимая во внимание тот факт, что П. Сорокин больше изучал вертикальные перемещения, а Дж. Урри – горизонтальные, можно сделать вывод, что в совокупности оба этих термина описывают инструменты, с помощью которых происходят социальные перемещения как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
Основные выводы будут такими. Все, произошедшие и продолжающие происходить изменения структуры общества, появление новых типов мобильностей и формирование систем мобильностей, фактическая оценка результата и оценка процесса мобильности, возникающие новые неравенства и капиталы и многие другие перемены, произошедшие со времен П. Сорокина, вписываются в данное им определение социальной мобильности как любого перемещения внутри социального пространства. Для лучшего понимания процессов социальной мобильности, происходящих в современном обществе, определение каналов социальной мобильности П. Сорокина необходимо дополнить смыслами Дж. Урри.
Дальнейшее изучение социальной мобильности видится перспективным с точки зрения лучшего понимания многих социально-философских категорий, например, таких как «справедливость», «честность», «равенство» и так далее, а также – для решения многих острых социальных проблем, связанных с ними.
Список литературы Концепции социальной мобильности П. Сорокина и Дж. Урри: социально-философский анализ
- Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака: монография [пер. с франц. Д. Ю. Кралечкина]. Москва: Академический Проект, 2007. 335 с.
- Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. № 5. С. 60-74.
- Иванов Д. В. Социология: теория и история: учеб. пособие. Санкт-Петербург. 2006. 160 с.
- Кастельс М. Становление общества сетевых структур: антология. Москва: Academia. 1999. С. 492-505.
- Кравченко С. А. Становление сложного общества: к обоснованию гуманистической теории сложности: монография. Москва: МГИМО Университет. 2012. 306 с.
- Маркузе Г. Эрос и цивилизация: монография [пер. с англ., послесл. А. Юдина]. Москва: ООО "Издательство ACT". 2002. 526 с.
- Сорокин П. А. [пер. с англ. М. В. Соколовой] Социальная мобильность: монография. Москва: Academia. 2005. 588 с.
- Турен А. Социология без общества // Социологические исследования. 2004. №. 7. С. 6-11.
- Урри Дж. Мобильности //Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2012. №. 5 (111). С. 197-252.
- Черныш М. Ф. Социальные институты и мобильность в трансформирующемся обществе: монография. Москва: Гардарики. 2005. 253 с.