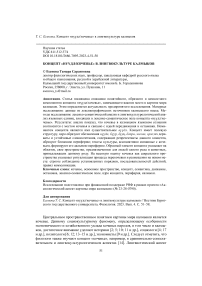Концепт «ндл/к0чевье» в лингвокультуре калмыков
Автор: Есенова Т.С.
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена описанию понятийного, образного и ценностного компонентов концепта «нуудл/кочевье», занимающего важное место в картине мира калмыков. Этим определяется актуальность предпринятого исследования. Материал исследования: данные из лексикографических источников калмыцкого языка. Методы исследования: лексико-семантический анализ и лингвокультурологический анализ языковых единиц, входящих в лексико-семантическое поле концепта «нуудл/кочевье».
Кочевье, освоенное пространство, концепт, семантика, движение, остановка, лексико-семантическое поле, ядро концепта, периферия, калмыки
Короткий адрес: https://sciup.org/148328065
IDR: 148328065 | УДК: 811.512.37'4 | DOI: 10.18101/2686-7095-2023-4-51-58
Текст научной статьи Концепт «ндл/к0чевье» в лингвокультуре калмыков
Есенова Т. С. Концепт «нүүдл/кочевье» в лингвокультуре калмыков // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2023. Вып. 4. С. 51–58.
Центральным пространственным понятием картины мира калмыков является кочевье. Данному социокультурному феномену, определяющему особенности экономического и хозяйственного уклада кочевых народов, в том числе и калмыков, достаточное внимание уделяют историки [2; 5; 10; 11 и др.], социологи [4; 17 и др.], политологи [6; 12; 13–15 и др.], экономисты [9 и др.]. Следует отметить, что филологи также изучают концепт «кочевье», например, в сравнительно-сопоставительном и лингвокультурологическом аспектах [14]. Лингвистический аспект исследования предполагает выделение и описание средств языковой репрезентации концепта «кочевье». Цель данной публикации — описание понятийных, образных и ценностных составляющих концепта «нүүдл/кочевье» в калмыцком языковом сознании. Материалом исследования послужили данные из лексикографических источников калмыцкого языка [ТСКЯ; ССКЯ; КРС; ППЗКРОК], языка ойратов Синьцзяна, который наиболее близок калмыцкому языку [СЯОС]. Методы исследования: лексико-семантический анализ и лингвокультурологический анализ языковых единиц, входящих в лексико-семантическое поле концепта «нүүдл/кочевье».
Для описания лексико-семантического поля анализируемого концепта рассмотрим языковые единицы, обозначающие ментальную область «нүүдл/коче-вье», что позволит обратить внимание на распределение выделенных единиц относительно ядра концепта. С этой целью из лексикографических источников калмыцкого языка [ТСКЯ; ССКЯ; КРС; ППЗКРОК] методом сплошной выборки были отобраны все средства обозначения данного концепта, которые далее анализировались с целью описания его понятийного содержания. К средствам объективации рассматриваемого концепта мы относим нүүдл ‘кочевка, перекочевка’, бүүр ‘кочевье, стоянка, стойбище’, бууц ‘стоянка, стойбище’, бәәрн ‘место’, зогсал ‘стоянка’, орм ‘место’. В языке ойратов Синьцзяна существует парное слово, обозначающее кочевье, — бууре-бууца. Кочевье наделяется признаком обильный: бууре-бууца элвегтәә байан Хаңһаа нутагтаа ‘у них богатый Хангай, изобилующий кочевьями’ [CЯОС, с. 89]. Общим семантическим компонентом всех обозначений концепта является ‘место’.
Большинство приведенных выше обозначений образовано от глаголов, передающих семантику движения, перемещения и остановки.
Идея перемещения передается глаголом нүүх : 1) ‘кочевать’, ‘перекочевывать’; 2) ‘передвигаться’, ‘переселяться’ [КРС, с. 390]. Эта семантика прослеживается в самых разных контекстах: от бытовых ( манахс маңһдур нүүхәр бәәнә ‘наши перекочуют’ [КРС, с. 390]; үлдел нутагаан дахуулаад улам цаар нүүгәәд бәәвәә ‘вместе с остатками людей своих кочевий стали откочевывать еще дальше’ [CЯОС, с. 256]) до эпических ( хан тер үгинь соңсад, нутгтан зар тәвәд, нүүв ‘услышав сказанные слова, хан распространил слух по стране и перекочевал’).
Идея остановки актуализируется следующими глаголами.
Буух — ‘останавливаться, располагаться станом, оседать, располагаться на жительство’: хама буудвт ? ‘где вы останавливаетесь?’ [КРС, с. 124].
Бәәх — ‘оставаться, находиться где-либо’: энд хавр болтл бәәхв ‘останусь здесь до весны’ [КРС, с. 89].
Зогсх — ‘стоять, находиться’ [КРС, с. 250].
В языке ойратов Синьцзяна у глагола буух прослеживается семантика остановки: теденәәхен цуг бүләәрен һолиин көвәәде буува ‘они всей семьей расположились на берегу реки’. Показательно, что данный глагол, относящийся к ядру лексической системы монгольских языков, присутствует в фольклорных текстах, например, в сказках: неге өдер өндер уулиин хормаада бууха геҗи һарлаа ‘однажды выехали, чтобы расположиться на жительство у подножия высокой горы’ [CЯОС, с. 83].
Важно и то, что глаголы, связанные с концептом «нүүдл/кочевье», присутствуют в текстах песен, посвященных откочевке части калмыков на историческую родину в Центральную Азию в 1771 г.: Иҗилиин торһууд нутагааса илһерсе гед һарлаа би, Или, Текестәән күрчи буухаар нүүлә би ‘я уехал, чтобы отделиться от торгутов реки Волги, я укочевал, чтобы добраться и поселиться на своих Или и Текесе’ [CЯОС, с. 83]. Следует обратить внимание на то, что в сознании ойратов Китая «своя территория» отождествляется с реками Или и Текес, расположенными на территории Китая, а Волга, на берегу которой проживают торгуты (калмыки), — с местом, откуда часть калмыков откочевала в ХVIII в. В целом в текстах, посвященных этому историческому событию, перемещение калмыков в Центральную Азию обозначается глаголом нүүх и его дериватами. В текстах, посвященных депортации калмыков в Сибирь в 1943 г., этот глагол не употребляется, а используется страдательный глагол көөгдх ‘изгоняться, выгоняться’. В глаголе көөгдх присутствует сема ‘принудительно’, которая не выделяется в глаголе нүүх .
Пространство «нүүдл/кочевье» калмыками осмысливается как освоенная территория, место, которое можно занять, — бәәр эзлх ‘занимать место, букв. стать хозяином места’ [КРС, с. 89], орм эзлх ‘занять место, букв. стать хозяином места’, ‘обосноваться’ [КРС, с. 403]. Это пространство может быть и не занятым: сул орм ‘свободное место’. Семантика, связанная с освоением, владением определенной территорией, представляется весьма важной, поскольку в литературе до сих пор обсуждается проблема специфики понимания собственности кочевыми народами [например: 5; 2].
Итак, как показал проведенный анализ, в семантике обозначений концепта «нүүдл/кочевье» присутствуют два элемента: движение и остановка. Кочевье в калмыцком сознании соотносится с местом и непосредственно связано с идеей передвижения: нег бүүрәс нег бүүрүр нүүдл кех ‘перекочевка с одного места на другое’. В языке ойратов Китая в понятийном содержании концепта «нүүдл/кочевье» наблюдается приращение смысла ‘поиск’ к значению ‘перемещение’: ораа болтал бууциин һазараан олха ‘до наступления темноты найти место стойбища’ [CЯОС, с. 83].
Структура концепта «нүүдл/кочевье»
Номинантом концепта «нүүдл/кочевье» в калмыцком языке является имя существительное нүүдл ‘кочевка, перекочевка’, так как данное слово относится к базисной лексике, присутствует во всех монгольских языках с общим значением ‘кочевка’, является cтилистически нейтральным словом, не имеющим ограничений в употреблении.
В ближнюю периферию лексико-семантического поля концепта «нүүдл/коче-вье» мы относим обозначения, связанные со значениями перемещения и остановки, а именно: бүүр ‘кочевье, стоянка, стойбище’, бууц ‘стоянка, стойбище’, бәәрн ‘место’, зогсал ‘стоянка’, орм ‘место’, а также слова, производные от данных обозначений, например: бүүре-бууца .
К дальней периферии концепта мы относим тексты культуры, ассоциативно связанные с идеей кочевья.
Анализ образного компонента концепта «нүүдл/кочевье»
В калмыцком языковом сознании кочевье ассоциируется с местом, где установлена гер ‘кибитка’. Это место стойбища калмыка, своя, обжитая, освоенная территория. В это пространство входят также пастбища для скота: малын бәәрн ‘место для пастьбы скота, выпас, пастбище’ [КРС, с. 89], места сезонных кочевий, например, зуна/үвлә бүүр ‘летнее/зимнее кочевье’ или стоянки определенного вида скота, например, адуна зогсал ‘место стоянки табуна’.
У калмыков-кочевников, вся жизнь которых связана со скотом, большое значение имели пастбища. Особое значение придавалось месту зимней стоянки, когда бүүре сольаад, намарҗиндаан одҗи бууха ‘сменив место кочевки, переселялись на зимники’ [CЯОС, с. 89]. Резко континентальный климат степи требовал хорошего укрепления жилища, особенно во время зимних шурганов ‘метели’, стужи, снегопадов. В этот сложный для скотоводов сезон мог случиться падеж скота. К гибели скота мог привести « хар зуд ‘черный зуд’, когда скот гибнет в безводной местности из-за отсутствия снега зимой; цаһан зуд ‘белый зуд’, когда выпадает много снега и скот погибает из-за невозможности добыть корм» [КРС, с. 255]. Поэтому скотоводы особо тщательно подбирали места зимних стоянок. Как правило, это были низины. Все места перемещений были традиционны, закреплены за родами, находились в общем владении рода. Перемещения кочевников с пастбища на пастбище происходили в пределах определенных границ территорий, закрепленных за родами. На традиционные сезонные пастбища калмыки возвращались каждый год.
Размер стойбища/стоянки мог измеряться количеством людей, помещающихся в ее пределах, как, например, в эпическом тексте Джангара: әрә баггтмар бүүрлгсн алвтиг тооһад, Хоңһран герт орулв ‘ обильно угостив подданных, еле разместившихся в его владениях, ввел во дворец легендарного Хонгора’ .
Итак, обозначения гер, малын бәәрн, зуна/үвлә бүүр, адуна зогсал и т. п. указывают на обжитое, свое пространство, предназначенное для людей одного рода и для принадлежащих данному роду животных.
Анализ ценностного компонента концепта «нүүдл/кочевье»
Об аксиологии осмысления концепта «нүүдл/кочевье» можно судить по присутствию обозначений концепта в разных жанрах, относящихся к культурно значимым текстам, например, в этикетных формулах, благопожеланиях: нүүхдәән тоостаа, буухдаан утаатаа болтха ‘чтобы при перекочевке стелилась пыль по земле, а когда располагались станом на жительство, — клубился дым’ [СЯОС, с. 256]. В подобных текстах тоосн ‘ пыль’ и утаа ‘дым’ выступают в качестве символа благополучия, достатка, мирной жизни, счастья калмыка-кочевника: перекочевка ассоциируется с пылью, а «оседание» на стойбище — дымом очага.
При перекочевке на новое стойбище калмыки соблюдали целый ряд обычаев и обрядов, что дает основание считать, что «нүүдл/кочевье» относится к сценарным концептам, для которых характерны определенные порядок и последовательность действий, имеющих ритуализированный характер. Прежде всего, специально определялся день, благоприятный для кочевки. Трогаться с места можно было только в означенный день и лишь в светлое время. Запрещалась кочевка в темное время суток, поскольку считалось, что в это время активизируются темные силы, шулмусы, которые могут нанести вред людям, скоту, имуществу [7]. Существовал также определенный порядок разбора и сборки кибитки. Следующим важным элементом кочевания было перемещение огня из семейного очага. Поскольку первым делом на новое место перемещался очаг, можно говорить о сакрализации огня из семейного очага как символа обжитого пространства и о ритуализации самого процесса перемещения огня. Об этом свидетельствует и запрет гасить огонь в старом кочевье.
После того как юрта была разобрана, проводился обряд шюр ‘очищение огнем’: разжигался костер, через который поочередно проходили люди, прогонялся скот, пропускались детали кибитки и все имущество семьи [1]. Люди верили, что вся нечисть, которая скапливалась за время проживания на данном кочевье, уничтожалась огнем. После этой церемонии кочевники переезжали на новое место, где тоже совершались последовательно определенные действия: устанавливалась в принятом порядке кибитка, в ней строго с соблюдением гендерного распределения пространства кибитки размещалась домашняя и хозяйственная утварь. Затем на новом кочевье варили чай, произносили благопожелания. Сначала старшие, а за ними все остальные говорили йорял ‘благопожелание’ новому кочевью. Это могли быть как длинные, так и короткие тексты-пожелания, в которых обязательно присутствовали пожелания: тоосн бүргҗ ‘клубится пыль’ (символ того, что пасутся стада животных и гости посещают кочевье), утан пүргҗ ‘дым струится’ (символ того, что хозяйка готовит пищу, семья будет накормлена, все будут сыты). Все эти элементы входят в содержательный минимум калмыцкого счастья, связанного с кочевьем. Так, например, они представлены в следующем кратком йоряле: буухднь утан пургж, HYyxdHb тоосн бургж! БYYPин буйн-кишг буугсдн эзнднь хальд^! ‘пусть над кочевьем струится дым, пусть над кочевьем клубится пыль! Пусть достанется счастье прикочевавшему хозяину!’ [РКР, с. 134].
Существовал и старинный обряд кропления гер на новом месте: әрке, чигәәһәән цацаад бүүре йөрәәхе ‘окроплять аракой и кумысом огонь, брызгать вверх и по сторонам, высказывать благопожелания в честь новоселья’ [СЯОС, с. 88]. Большое значение придавалось соседям, с кем рядом предстояло жить на новом кочевье или вместе кочевать на другое место. Так, существовал обычай навещать соседей при перекочевке, а также во время праздников, поскольку считалось, что өөре хошаа икер бүүртәә үкедег эмдерхедәән әме холвогсан ‘они связали свою судьбу с соседями и ближними кочевьями как в смерти, так и в жизни’ [СЯОС, с. 88]. Некоторые семьи могли кочевать вместе из года в год. Как правило, это были родственники. В таких хотонах ‘стойбищах’ существовал определенный порядок размещения юрт, основанный на старшинстве в родственной иерархии и гендере. В центре хотона располагалась ик гер ‘большая (старшая, отцовская) юрта’, ниже — юрты женатых сыновей, справа — юрта женатого старшего сына, слева — юрта вдовы-дочери/сестры, младшего сына [7]. Как видим, в размещении юрт в хотоне прослеживается пространственное осмысление иерархии «старший– младший», «мужской–женский»: по калмыцкому этикету, правая сторона считается почетнее противоположной [3], является мужской; левая — женской [8, с. 15]. Итак, для сохранения кишг ‘счастья’, җирһлң ‘благополучия’ соблюдались определенный порядок разбора и сбора гер, последовательность действий при откочевке со старого стойбища и размещении на новом кочевье, которые носили строго регламентированный характер, а также правила коммуникации с окружающими. Значит, кочевье калмыцким языковым сознанием оценивается как сакральное пространство.
Таким образом, концепт «нүүдл/кочевье» в калмыцком языковом сознании соотносится с местом размещения, связан с идеей передвижения и остановки. Номинантом концепта является имя существительное нүүдл. Концепт имеет полевую структуру, ядро образуют обозначения нүүдл , бүүр, бууц, бәәрн , зогсал , орм ; их дериваты и устойчивые словосочетания, содержащие репрезентанты данного концепта, образуют ближнюю периферию; тексты культуры, ассоциативно связанные с кочевьем, формируют его дальнюю периферию. Образный компонент концепта указывает на обжитое, свое пространство, предназначенное для людей одного рода и животных, принадлежащих данному роду. На высокую оценку кочевья как сакрального пространства указывает ритуализация процесса перекочевки и размещения на новом месте: строгое соблюдение установленных порядков, последовательностей действий, правил коммуникации.
Список литературы Концепт «ндл/к0чевье» в лингвокультуре калмыков
- Амур-Санан А. М. Мудрешкин сын. Элиста: Калм. кн. изд-во, 1987. 203 с. Текст: непосредственный.
- Барфилд Т. Мир кочевников скотоводов // Кочевая альтернатива социальной эволюции. Москва: Изд-во Института Африки РАН, 2002. С. 4361. Текст: непосредственный.
- Бентковский И. В. Жилище и пища калмыков Большедербетовского улуса // Сборник статистических сведений о Ставропольской губернии. Ставрополь: Издание Ставропольского губернского статистического комитета, 1868. С. 82104. Текст: непосредственный.
- Васютин С. А. Социальная организация кочевников Евразии в отечественной археологии: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Барнаул, 1998. 23 с. Текст: непосредственный.
- Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Ленинград: Академия наук, 1934. 223 с. Текст: непосредственный.
- Дмитриев С. В. Историко-этнографические аспекты политической культуры тюрко-монгольских кочевников: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Санкт-Петербург, 2000. 21 с. Текст: непосредственный.
- Житецкий И. А. Очерки быта астраханских калмыков. Этнографические наблюдения 1884–1886 гг. Москва: Тип. Волчанинова, 1893. 75 с. Текст: непосредственный.
- Жуковская Н. Л. Категории и символика традиционной культуры монголов. Москва: Наука, 1988. 195 с. Текст: непосредственный.
- Коган Л. С. Проблемы социально-экономического строя кочевых обществ в историко-экономической литературе (на примере дореволюционного Казахстана): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Москва, 1981. 21 с. Текст: непосредственный.
- Крадин Н. Н. Кочевые общества. Владивосток: Дальнаука, 1992. 239 с. Текст: непосредственный. 11. Кычанов Е. И. Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. Москва: Вост. лит-ра, 1997. 316 с. Текст: непосредственный.
- Марков Г. Е. Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1976. 316 с. Текст: непосредственный.
- Масанов Н. Э. Кочевая цивилизация казахов (основы жизнедеятельности номадного общества). Алматы: Фонд Нурбулата Масанова, 2011. 735 с. Текст: непосредственный.
- Сарангаева Ж. Н. Кочевье как этнокультурный концепт. Элиста: Изд-во Калм. ун-та, 2009. 128 с. Текст: непосредственный.
- Скрынникова Т. Д. Монгольское кочевое общество периода империи // Альтернативные пути к цивилизации / ответственные редакторы Н. Н. Крадин, А. В. Коротаев и др. Москва: Логос, 2000. С. 344-355. Текст: непосредственный.
- Скрынникова Т. Д. Основания власти правителя в монгольской политической культуре // Монголика-XV. Санкт-Петербург: Петербургское востоковедение, 2015. С. 3944. Текст: непосредственный.
- Хазанов А. М. Кочевники и внешний мир. Алматы: Дайк-пресс, 2000. 603 с. Текст: непосредственный.