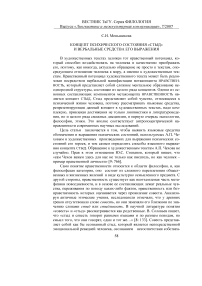Концепт психического состояния «стыд» и вербальные средства его выражения
Автор: Меньшикова Светлана Ивановна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120458
IDR: 146120458
Текст статьи Концепт психического состояния «стыд» и вербальные средства его выражения
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 7/2007___ ных помыслов, поступков, слов не только ожиданиям окружающих, но и собственным понятиям о нормах морали и правилах общественного поведения, и проявляется в виде объективных биохимических, физиологических и психических реакций. В научной литературе есть немало примеров из античной истории, когда герой бросает обвинение своему противнику на суде, высказанное следующим образом: «Что ты побледнел? Ну конечно, краснеть ведь ты не умеешь». Из этой фразы следует, что герой обвинен несправедливо, а его обвинитель испытывает страх (побледнел), так как ему не дано испытывать стыд: он не умеет краснеть, а это свидетельство того, что он лишен такого нравственного чувства, как стыдливость.
Психические состояния характеризуются временным проявлением различных чувств и эмоций, выражают интенсивность протекания психических процессов, их качество и оценку. Поскольку человек всегда находится в определенном психическом состоянии, следует говорить не о возникновении какого-либо психического состояния, а о смене разнообразных состояний, переходе из одного состояния в другое. Психическое не существует само по себе, оно связано с сознанием. «Сознание – это то, что объединяет психические функции, связывает их между собой в единство психической жизни» [4: 31].
Все, что может заключаться в человеческом сознании, выражается в языке посредством текстов, которые есть «способ существования языка, способ освещения реальности человеческим сознанием, способ выражения мысли» [1: 151] Исследуя совокупность языковых средств, вербализующих концепт СТЫД как один из составляющих компонентов метаконцепта НРАВСТВЕННОСТЬ в художественных текстах А.П. Чехова, важно отметить, в первую очередь, изменения, которые происходят в психической жизни героя, испытывающего или испытавшего чувство стыда. В этой связи значительный научный интерес представляют те вербальные средства, которые выбирает автор, чтобы глубже передать внутренний мир героя.
Наименования психических состояний в лингвистике изучались преимущественно в семасиологическом плане: по принципу «от формы к значению», затем особое внимание уделялось иному, ономасиологическому типу описания по принципу «от значения к форме». Чрезвычайно важным, на наш взгляд, является представление системы языковых средств, которые используются в художественных текстах для выражения психических состояний героев. В настоящее время, когда интенсивно развивается лингвистическая концептология, содержание сознания можно эксплицировать через язык. Исследование семантики языковых единиц позволяет рассматривать способ представления концептов как основной единицы сознания, имеющей вербализованную и невербализованную части содержания, причем невербализованность части концепта не влияет на реальность его существования.
Многочисленные дефиниции концепта и различные подходы к его изучению свидетельствуют о его многоплановости, и это открывает воз- можность объединить усилия исследователей с тем, чтобы выйти за пределы узкоситуативного понимания языковых и неязыковых явлений и включиться в общий процесс моделирования национальной концептосферы.
В своем определении концепта С.Г. Воркачев подчеркивает, что концепт – это «синтезирующее лингвоментальное образование, методологически пришедшее на смену представлению (образу), понятию и значению… в качестве “законного наследника” этих семиотических категорий лингво-концепт характеризуется гетерогенностью и многопризнаковостью, принимая от понятия дискурсивность представления смысла, от образа – метафоричность и эмотивность этого представления, а от значения – включенность его имени в лексическую систему языка» [2: 10]. Анализ языковых средств от «семантики единиц языка к концепту» позволяет наиболее надежным способом выявить признаки концепта и моделировать его.
В последнее время появилось большое количество работ, исследующих концепт в разных аспектах. Наиболее полная картина современного изучения концепта представлена в диссертационном исследовании Ю.Е. Прохорова «Концепт, текст, дискурс в структуре и содержании коммуникации» [6]. На основании анализа многочисленных частных выводов он предлагает следующее определение концепта: «Концепт – сложившаяся совокупность правил и оценок организации элементов хаоса картины бытия, детерминированная особенностями деятельности представителей данного лингвокультурного сообщества, закрепленная в их национальной картине мира и транслируемая средствами языка в их общении» [Op. cit.: 303]. Следует отметить, что в последнее время во многих дефинициях концепта подчеркивается, прежде всего, его всеобщный, всеобъемлющий, национальный характер, тогда как личностная составляющая концепта, понимание его как достояние индивида остается как бы на периферии.
Зачастую при анализе концепта как инварианта даются определения из словарных статей, что отождествляет его с понятием. В этой связи нельзя не отметить справедливое замечание А.А. Залевской, которая констатирует, что «добавление текстов в качестве исследовательского материала несколько расширяет поле обозрения, тем не менее сводит его к языковой картине мира, а точнее – к той части этой картины, которая находит отображение в рассмотренных словарях и текстах» [3: 89]. Несомненно, при исследовании концепта как видения мира личностью, из чего, собственно, складывается концептосфера народа, необходим комплексный подход, в котором основное место занимало бы исследование познания внешнего мира через психическую деятельность. Оптимальным с этой точки зрения, на наш взгляд, является определение концепта, согласно которому концепт трактуется как «спонтанно функционирующее в познавательной и коммуникативной деятельности индивида базовое перцептивно-когнитивноаффективное образование динамического характера, подчиняющееся закономерностям психической жизни человека» [Op. cit.: 90]. Это определение принято нами в качестве рабочего.
Концепт может быть описан и через анализ объективирующих его языковых средств, входящих в номинативное поле концепта. Номинативное поле отличается от других типов полей (лексико-фразеологического, лексико-семантического, функционально-семантического, ассоциативного) комплексным характером. В задачу настоящей статьи не входит формирование номинативного поля исследуемого концепта, поэтому дано только системное описание языковых средств, которые выражают психические состояния и физические ощущения героев.
Переходим к анализу конкретного языкового материала. Согласно словарным дефинициям, « стыд – чувство сильного смущения от сознания предосудительности поступка; позор, бесчестье; стыдить – укорять, чтобы вызвать в ком-н. чувство стыда, раскаяния; стыдиться (кого-чего) -испытывать стыд, стесняться; стыдливый – испытывающий чувство стыда, застенчивый, стеснительный; выражающий стыд, смущение; стыдный – вызывающий чувство стыда; постыдный; стыдно, в знач. сказ.; стыдоба (прост.) - о чем-то стыдном, предосудительном [5: 803]; стыд, позор -постыдное, унизительное для кого-либо положение в результате позорящего события, оскорбления, недостойного поступка, поведения и т.п., бесчестье, бесславие, стыд (разг.), срам (разг.), срамота (прост.) стыдоба (прост., усилит.), сорам (прост.) [5: 389]; смущение, позор [7: 527], смущение, смущенность , замешательство, конфуз, стыд, стеснение , стесненность, неловкость, неудобство; позор, бесславие; бесчестье, стыд (и срам), скандал, позорище (разг.) срамота (прост.) [7: 500]; посрамление (кн.), сором (уст., прост.), стыдоба (нар.-поэт.) [7: 377].
Концепт психического состояния СТЫД представляет собой конструкции со следующей семантикой: ‘взволнованное состояние и связанное с ним чувство неловкости, неудобства, неуверенности в себе (от стыда, застенчивости, нерешительности, растерянности и т.д.)’. В произведениях А.П. Чехова они строятся при помощи глаголов смущаться, конфузиться, тушеваться и их синонимов стесняться, мяться , а также глаголов эмоционального переживания : стыдиться, совеститься (разг.) и их синонимов: стесняться, краснеть (перен.), сочетаний испытывать смущение, стыд, чувствовать неловкость. Каждый из синонимов имеет свою дополнительную семантику, которая выделяет его из синонимического ряда в рамках общего значения. Например: «Доктор покраснел и выбежал в другую комнату» [10: 183]. «Он чувствовал в своем теле что-то новое, какую-то неловкост ь, которой раньше не было…» [Op. cit.: 460].
Конфуз (разг.) – состояние смущения, неловкости; неловкое и смешное положение; конфузить (разг.) кого (что) - приводить в конфуз; конфузиться (разг.) – испытывать конфуз, стесняться; конфузливый (разг.)– легко приходящий в конфуз, стеснительный; конфузный (разг.) - способный привести в конфуз, смущающий, компрометирующий [7: 299].
Совеститься (разг.) – стесняясь, стыдясь, удерживаться от чего-нибудь, от дурного поступка; совестливый – обладающий чувством нрав-
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
Выпуск «Лингвистика и межкультурная коммуникация», 7/2007 ственной ответственности перед другими, поступающий по совести; совестно в знач. сказ., кому, или с союзом «что» (разг.) - стыдно, неловко от сознания неправоты или от чувства стеснения [7: 766 ].
Анализ художественных текстов А.П. Чехова позволяет сделать вывод о том, что конструкции со значением ‘стыд’ составляют 65% всех употреблений именований данного состояния, ‘смущать’ – 20%, остальные конструкции составляют 15%. Таким образом, в качестве доминанты обозначения психического состояния выступает слово стыд , синонимический ряд которого можно представить следующим образом: стыд, смущение, конфуз, стеснение ; стыдиться, конфузиться, смущаться, краснеть; совеститься, смешаться, замяться, стесняться .
В художественных текстах А.П.Чехова концепт СТЫД представлен различными языковыми конструкциями, причем не всегда он вербализован. Очень часто он дан через описание состояний и действий героев, которое включает оценочную лексику. Рассмотрим языковые модели, используемые А.П. Чеховым в порядке их продуктивности.
К наиболее продуктивным конструкциям относится наречнопредикативная модель МНЕ СТЫДНО с семантикой: ‘чувство стыда, испытываемое кем-либо’. В исследуемых текстах представлены слова категории состояния стыдно и совестно . Очень важен сам факт существования в русском языке конструкций подобного рода, специально предназначенных для передачи состояния. Например:
«А вот и я!» - сказал он, улыбаясь, ему было мучительно стыдно , и он чувствовал, что и другим стыдно в его присутствии [10: 442]; «Пришла ему (Егорушке) почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить; с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно» [Op. cit.: 139].
Грамматический субъект в таких конструкциях выражен формально, поэтому весь смысловой акцент концентрируется именно на состоянии стыда, а субъект как бы отодвигается на второй план. По-видимому, столь продуктивное использование в текстах этой конструкции обусловлено тем фактом, что очень часто для автора важно раскрыть именно глубину состояния героя. Следует отметить, что эта модель используется в таком приеме, как экспрессивный повтор. Герой как бы не может найти других слов для выражения глубокой степени своего стыда и повторяет несколько раз одни и те же слова, которые, как правило, сопровождаются экспрессивной лексикой, или это делает автор, подчеркивая глубокое переживание героя. Например: «Ему было стыдно , что в свой личный вопрос он впутал посторонних людей, стыдно за слова, которые он говорил этим людям... стыдно за свой непонимающий, неглубокий ум» [10: 184].
К довольно продуктивным конструкциям относится глагольная модель Я СТЫЖУСЬ с семантикой *испытывать чувство стыда’. Как известно, глагольные модели указывают на внешнее обнаружение состояния. Эмо- циональное состояние со значением ‘стыд’ выражается в исследуемых текстах глаголами стыдиться, конфузиться, смутиться. Например:
«Самойленко стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровым взглядом» [10: 377]; «Увидав Надежду Федоровну, он смутился и вышел» [Op. cit.: 441]; «Вышло, как будто я сконфузился или испугался…» [Op. cit.: 171 ].
Конструкции, передающие то или иное эмоциональное состояние как простую их констатацию, органично сочетаются со структурами, в которых подчеркивается интенсивность, высокая степень проявления состояния, например: просто стыдился, немного стыдился, так конфузится, до того сконфузился, очень смутился, решительно сконфузился, сильно конфузился, совершенно смешался, страшно смутился, ужасно смешался.
Реже используется автором для передачи внутреннего состояния героя субстантивная модель ПРИЧИНА СТЫДА с семантикой ‘чувство сильного смущения от сознания предосудительности, неблаговидности своего поступка’ . В текстах содержатся субстантивные конструкции, выражающие чувство стыда. Например: «И сознание, что «это можно», всякого просящего и берущего спасает от стыда и неловкого чувства» [10: 508].
Предложено-падежная модель Я В СМУЩЕНИИ с семантикой ‘погруженность в состояние сильного смущения, неловкости от сознания предосудительности, неблаговидности своего поступка’ представлена в тех случаях, когда важно подчеркнуть своеобразную осознанность героем чувства стыда. Данные структуры, подчеркивающие погруженность субъекта «внутри состояния», могут употребляться с глаголами бытия. Кроме того, обозначению состояния могут сопутствовать определения интенсивности состояния. Например: «Он попятился назад, навалился спиною на дверь и вышел в гостиную красный, в страшном смущении» [10: 437].
Адъективная модель Я СТЫДЛИВ с семантикой ‘легко приходящий в смущение, застенчивый, стеснительный’ нечасто наблюдается в художественных текстах А.П.Чехова. При помощи кратких прилагательных передается состояние субъекта. Если полные прилагательные означают свойство характера героя, то краткие прилагательные передают его состояние, так как в них происходит процесс ограничения качества во времени и их переход в новую сущность – состояние. Например: «Робок и застенчив он был вообще на редкость».
Иногда используется причастная модель Я СМУЩЕН с семантикой ‘исполненный смущения, застенчивости’. Краткое страдательное причастие, передает состояние смущенности, конфуза. Например: «Секунданты были смущ ены и переглядывались друг с другом…» [10: 468].
Метафорическая модель СТЫД ОХВАТЫВАЕТ МЕНЯ с семантикой ‘субъект испытывает чувство стыда, которое охватывает его’ зафиксирована в текстах А.П. Чехова в сравнительно небольшом количестве. Данную модель образуют глаголы охватывать, овладевать, брать, томить, мучить со словами, обозначающими состояние. Например: «Меня мучит со- весть». «Его охватывает стыд». Эти метафорические модели сильно тяготеют к фразеологизмам. Состояние стыда передается в русском языке большим количеством фразеологизмов, подавляющее большинство которых связано со значением глаголов гореть, краснеть, вспыхнуть: гореть от стыда, впыхнуть как огонь от стыда, не знат, куда деваться (от стыда), готов сквозь землю провалиться, покраснеть до корней волос, покраснеть как рак, прятать глаза, язык не поворачивается, кровь бросилась в лицо, готов сквозь землю провалиться, вгонять в краску. Фразеологизмами крайне редко встречаются в текстах Чехова.
Для А.П. Чехова очень характерно изображение физического проявления психического состояния стыда. Психические состояния составляют внутреннюю сущность личности и потому их нельзя отделить от личности. Под психическими состояниями часто понимают как наблюдаемые со стороны, внешние физиологические реакции (изменение дыхания, нарушение сердечной деятельности, нарушение кровообращения и т.д.), так и внутренние состояния человеческой психики, которые обычно называют переживаниями. Малейшие изменения в психическом состоянии ощущаются в повседневной жизни по чуть заметным изменениям в выражении лица, интонации, движении. Как врач, А.П.Чехов прекрасно знал это и передавал состояние героя через описание его чувств и эмоций.
Известно, что для характеристики психического состояния свойственно взаимодействие языковых единиц, оно может быть выражено глаголами, краткими страдательными причастиями, деепричастиями, существительными, прилагательными, словами категории состояния: похолодел, покраснел, вспыхнула, стыд, стыдно, смущен, стыдлив, конфузясь.
Для характеристики эмоционального состояния и переживания со значением смущения, стыда А.П.Чехов очень активно использует эти языковые средства. Например: «У доктора вдруг застучало сер дце, и весь он похолодел от стыда и какого-то непонятного страха» [10: 175]; «Вспомнив об этом Надежда Федоровна вся вспыхнула и оглянулась на кухарку, как бы боясь, чтобы та не подслушала ее мыслей» [Op. cit.: 402]. В большинстве случаев состояние названо, однако бывает, что оно не названо, но ясно, что речь идет о стыде и о стремлении скрыть неблаговидный поступок от окружающих. Например: «И что-то в самой глубине души смутно и глухо шептало ей, что она мелкая, пошлая, дрянная, ничтожная женщина…» [Op. cit.: 405]. Цвет лица, температура тела – все это важнейшие внешние показатели внутренних чувств героев. Например:
«До сих пор она была влюблена в него, ревновала, краснела при слове “любовь” и уверяла всех, что она очень счастлива» [10: 403]; «Александр Архипович еще не приходил? - спросил доктор, конфузясь» [Op. cit.: 177]; «Продолжая плакать, Надеждя Федоровна пошла в спальню и легла на постель. Ее стала бить сильная лихорадка» [Op. cit.: 428].
Мимика – одно из самых ярких внешних проявлений переживаний человека. У героя искаженное лицо; он закрывает лицо от стыда руками: не знает, куда девать глаза, стыдливо потупился. Например:
«Самойленко совсем ослабел; лицо его приняло виноватое, пристыженное и заискивающее выражение , и как-то странно было видеть это жалкое, детски-сконфуженное лицо у громадного человека с эполетами и орденами» [10: 433].
Все это очень зримо передает внутреннее состояние человека.
Пантомимика (выразительные движения тела) – тоже весьма характерная внешняя деталь в раскрытии состояния героя: стала как вкопанная, переминался с ноги на ногу, ноги трясутся, колена его подогнулись. Например: «Он покраснел, приложил руку к сердцу и продолжал…» [10: 470 ].
Сердечная деятельность, конечно, тоже участвует в переживаниях героя. Например, «Сердц е его сильно билось, он весь дрожал и хотел плакать …» [10: 169];
Функции секреторных желез, которые связаны с чувством стыда, выражаются словами: заплакать, рыдать, рыдания, слезы. Например: «Рыдания и стыд мешали ей говорить» [10: 427].
Голос, дыхание (выразительные движения, связанные с изменением дыхания, голоса) часто передаются А.П. Чеховым при помощи экспрессивно окрашенных глаголов: пробормотал кое-что, охнул, проговорил запинаясь, проговорил вполголоса. Например:
«Душа моя, извини», - зашептал Самойленко, оглядываясь на дверь и конфузясь [10: 429]; Глаза доктора налились слезами , и голос дрогнул [Op. cit.: 180].
Довольно часто А.П.Чехов передает такое состояния героя, которое является следствием стыда. Это, как правило, чувство досады, мучения, страха, чувство тяжести, на душе, изменение психического и физического состояния. Например:
« На душе было тяжело оттого, что он не удержался и сказал ей грубость» [10: 417]; «И когда он в пасмурное утро ехал к мировому, ему уж было не стыдно, а досадно и противно» [Op. cit.: 177]; «Скверно себя чувствую. В голове пусто, замирания сердца, слабость какая-то…» [Op. cit.: 382].
Таким образом, концепт психического состояния СТЫД выражается в художественных текстах А.П. Чехова самыми разнообразными языковыми средствами, каждое из которых он использует настолько точно, что читатель не только понимает внутреннее состояние героя, но и сопереживает, а эти сопереживания формируют его нравственный идеал. Известно, что для характеристики психического состояния свойственно взаимодействие языковых единиц, выраженных глаголами, краткими страдательными причастиями, существительными, прилагательными, словами категории состояния. Особенностью использования вербальных средств в художественных текстах Чехова является то, что внутренние чувства автор очень часто передает не описательно, а через физическое состояние героя (здесь, по- видимому, выступает Чехов-врач), изображая самые различные нюансы проявлений внутреннего переживания человека. А.П. Чехов по-разному использует вербальные средства и языковые модели, существующие в русском языке. Наиболее продуктивно представлена модель со словами категории состояния, затем идут глаголы с соответствующей семантикой, менее активно используются предложно-падежные субстантивные модели и адъективные модели. В текстах писателя незначительно представлены фразеологизмы с соответствующей семантикой.
Сделанные выводы позволяют расширить наше представление не только о концепте СТЫД , но и об особенностях его вербального выражения в художественных текстах многих авторов. Дальнейшее исследование данной проблемы в различных аспектах представляется важным: оно будет способствовать более глубокому проникновению в сложное устройство концепта, обогащая наше знание о безграничности русского языка в художественных текстах.