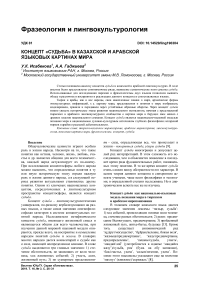Концепт "судьба" в казахской и арабской языковых картинах мира
Автор: Исабекова Улдар Келдибековна, Гаджиева Анар Ахметбековна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Фразеология и лингвокультурология
Статья в выпуске: 3 т.16, 2019 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу концепта судьба в казахской и арабской лингвокультурах. В ходе анализа были представлены синонимичные ряды, выявлены семантические поля семемы судьба . Использованные для исследования паремии и фразеологизмы двух языков позволили выявить общее и различное в восприятии и реализации данного концепта в сопоставляемых языках.Тюрки и арабы, как и все народы, свои накопленные знания о мире, архаические формы этнокультурных информаций, т. е. картину мира, представления и понятия о мире изображали, моделировали, хранили и передавали через устойчивые образные обороты. Через концепт судьба можно увидеть исторические этапы развития национального менталитета, начиная с представлений тюркского и арабского лингвокультурного сообщества о картине мира и берущих свое начало с древних пластов национального сознания. Концепт судьба является национально-языковой моделью познания мира и национальным духовно-культурным источником глубоких философских воззрений тюрков и арабов о реальной действительности.
Тюркско-казахское мировоззрение, арабское мировоззрение, лингвокультурология, языковая картина мира, фразеологизмы, концепт, судьба
Короткий адрес: https://sciup.org/147232039
IDR: 147232039 | УДК: 81 | DOI: 10.14529/ling190304
Текст научной статьи Концепт "судьба" в казахской и арабской языковых картинах мира
Общечеловеческие ценности играют особую роль в жизни народа. Несмотря на то, что такие понятия как истина, человек, жизнь, любовь, счастье и др. являются общими для всего человечества, каждый народ актуализирует их по-своему. При исследовании концептосферы любого народа можно выяснить, что определенные понятия в ту или иную историческую эпоху играли важную роль в жизни данного народа, а в следующий период развития актуальными становились другие понятия. Одним из ключевых национальных концептов, сосредоточенных в лингвокультурном пространстве концептосферы, является концепт судьба .
Концепт судьба – лингвокультурологическая универсалия, по-разному вербализующаяся на разных языках, а также самая значимая лингвофилософская категория в системе концептуальных понятий народа. Исследователи метафизического концепта судьба, имеющего жизненный смысл и являющегося общим для всего человечества, при изучении данной мировой языковой модели опираются, прежде всего, на восприятие и осмысление народом понятий судьбы и жизни. В словарях многих народов дается комментарий о судьбе как о силе, имеющей неопределенное влияние. В слове судьба выделяются три главных значения: 1) стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход жизненных событий; 2) участь, доля, жизненный путь; 3) по суеверным представлени- ям – сила, определяющая все, что происходит в жизни – покориться судьбе, удары судьбы [9].
Концепт судьба многогранен и допускает целый ряд интерпретаций. В этом сложность его исследования, чем и объясняется появление в последнее время ряда фундаментальных работ, посвященных этому понятию. В то же время концепт судьба очень сложен ввиду абстрактности его характера. В целом теория данного концепта в синхронном аспекте учеными, чаще всего философами и теологами, в определенной степени исследована. Но в диахроническом аспекте все же не изучена.
Концепт судьба как национально-языковая модель познания мира в тюркском и арабском миропонимании
В толковом словаре казахского языка даются следующие значения лексемы ‘тағдыр, судьба’: 1) ход событий, происходящих помимо воли человека, стечение разных обстоятельств; 2) религ. предписание Всемогущего, предначертание; 3) пройденный жизненный путь, житье-бытье, будущее [13]. Кроме того, существует синонимический ряд ‘құдірет/могущество’, ‘бұйрық/веление, божья воля’, ‘жазмыш/предначертание’, ‘жазу/предначертание, предопределение’, ‘пешене/судьба, участь’, ‘маңдай/лоб’ (употребляется в идиоме ‘маңдайға жазу’)/судьба, рок’ (букв. на лбу написано), ‘бақ/счастье, удача’, ‘салым/везение, удача’. Помимо этого языковеды указывают еще на значение ‘махпуз’ (книжное)‘скрижаль’ [8].
В казахском миропонимании судьба – предопределение, предначертание Всемогущего. В основе пословиц: Жазмыштан озмыш жоқ ‘От предначертанного не убежишь’ ; Жазым болса быламыққа да тіс сынар ‘ Если суждено, то и от каши зуб сломается ’; Болмаймын дейді қайғысы, болдырмаймын дейді тәңір ісі ‘Печаль не хочет быть, но быть ей или не быть – дело бога’ ; Алланың әмірінсіз пенденің табанына тікен кірмейді ‘Без веления Аллаха и колючка не вонзится в ступню человека ’ – заключено суждение, что судьба – это предначертание Всемогущего, неподвластное воле человека. Это нашло конкретное отражение и во фразеологизмах: араз тағдыр (букв. в ссоре с судьбой/судьба против) ‘изначально не суждено, не суждено быть вместе’ ; тағдырдың жазғаны/салғаны (букв. предначертано судьбой) ‘прожить, что написано на роду’ ; тағдырдың уын ішті (букв. выпил яд судьбы) ‘познал все тяготы и невзгоды жизни’ ; тағдыр жетті (букв. настигнула судьба) ‘настиг-нула смерть’ и т. д. [11]. Арабское словосочетание qaḍā`an wa qadaran – ‘по воле судьбы, случайно; по воле Бога’ – используется в аналогичном значении.
Значение казахского слова «тағдыр/судьба» в арабском языке передает лексема кадар ‘ судьба, рок, предопределение’. Qadar в свою очередь неразрывно связан с понятием qaḍā` ‘приговор, приказ, судопроизводство’. В исламе термин al-qaḍā` wa-l-qadar ‘ предустановление и предопределение’ , означает божественную предопределенность всего, что происходит в мире. Само понятие qadar в арабском языке представлено целым рядом синонимов в значении предопределение, судьба, рок, уча сть: dahr ‘эпоха, век, судьба, рок’ , maṣīr ‘судьба, удел, участь, будущность’ , ḥaẓẓun ‘доля, удел, судьба, счастье, удача’, naṣīb ‘доля, часть’ и др. Заимствованное в казахский язык слово тағдыр в современных тюркских языках используется в следующих формах: в турецком яз. yazgı, kader ; в азербайджанском яз. täle, ġädär ; в башкирском яз. täḳdir, yazmış ; в казахском яз. jazu, täğdır, jazmış ; в киргизском яз. täğdır, cazmış ; в узбекском яз. taḳdir , в татарском яз. täḳdir, yazmış ; в туркменском яз. yazğit, takdir, tälay ; в уйгурском яз. тäğdir [21]. Как видно из примеров, понятие судьба , выраженное заимствованным из арабского языка словом тағдыр ‘ судьба’, в указанных тюркских языках различается на фонологическом уровне. В тюркских языках судьба признается как фактор, влияющий на жизнь человека, т. е. как сила противостоящая воле и желанию человека.
Проблема судьбы человека является важной не только для простого человека. В исламе она до сих пор остается одним из самых сложных разделов исламского вероучения [1]. Ат-Тирмизи приводит хадис Убады бин ас-Самита о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, первым, что создал
Аллах, была письменная трость». Он сказал ей: «Пиши!» Она спросила: «Что писать?» Он сказал: «Пиши судьбу того, что было, и того, что произойдет во веки вечные» [1]. «Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небе и на земле? Воистину, это [записано] в Писании, и, воистину, это знание не составляет для Аллаха труда» [12]; «Воистину, Мы оживляем мертвых и записываем то, что они вершили, и то, что они оставили после себя. И все Мы подсчитали в ясном руководстве» [12].
Согласно исламскому вероучению, божественная предопределенность распространяется на всё, включая человека и его жизнь. Этот постулат нашел свое отражение во многих коранических айатах: 'innā kulla s h ay'in k h alaqnāhu bi-qadarin ‘ Воистину, сотворили Мы все сущее по предопределению ’ [12]; wa khalaqa kulla shay'in fa - qaddarahu taqdiran ‘ Cотворил Он все сущее и придал ему меру ’ (или предопределил его [12]. Идея божественного предопределения всего сущего выражена и в многочисленных хадисах пророка Мухаммада. В одном из них говорится: ‘Аллах записал судьбы всего сотворённого за пятьдесят тысяч лет до того, как Он создал небеса и землю’ [17].
Однако вышесказанное ни в коем случае не означает, что судьба человека в миропонимании арабов предопределена заранее в мельчайших деталях раз и навсегда, что человеку отведена роль пассивного исполнителя предписанной ему доли в жизни и он не может выйти за границы всего этого. Как бы ни была предопределена судьба человека, у него всегда есть право на личный выбор, и никто не может отнять это у него. Именно сам человек делает нравственный выбор между добром и злом, между правдой и ложью. Подтверждение этому можно найти в коранических айатах, где Всевышний Аллах говорит: «Разве не открыли Мы два пути перед ним – добра и зла?» [12] или «Скажи: «Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует» [12].
Связывать трудные моменты жизни с могущественной силой, с которой человек не может справиться сам, свойственно многим народам. Так, в средневековых письменных памятниках встречаются следующие примеры: Создал Аллах прежде всего судьбу, признай и покорись этому! [7]; Обойдешь неустанно весь свет и узнаешь: и тебе причитается предначертанная доля твоя [7]. В арабском языке это выражено фразеопредложе-нием qaddara allahu wa ma shā`a fa’ala ‘мы ничего не можем сделать’ (букв. Аллах предопределил и сделал то, что пожелал), где первый компонент выражен глаголом qaddara – определять, назначать, предопределять. В данном контексте ярко выражена убежденность человека в неизбежности случившегося, предопределенности Всевышним. В то же время концепт судьба в арабском миропонимании неразрывно связан с таким понятием, как ṣabr ‘терпение, выносливость’. Именно терпение является тем качеством, когда человек, несмотря на все тяготы, сопровождающие его на разных этапах жизни, воспринимает свою судьбу как должное. Коран предписывает быть терпеливыми и достойно нести бремя жизни, в конечном счете, именно терпеливые будут заслуживать милосердие Всевышнего. И только к ним судьба бывает благосклонной, что раскрывается в следующих арабских афоризмах: man raḍiya bi-qismati Allāhi istaghnā ‘Тот, кто доволен судьбой, предопределенной Аллахом, ни в чем не нуждается’, dawā` ad-dahri aṣ-ṣabr ‘alayhi ‘Терпение – лучшее лекарство против превратностей судьбы’.
Известно, что судьба может быть счастливой и несчастной. Понятие о счастливой судьбе и счастливой жизни хорошо отражается в памятнике ХI в. «Кудатгу билик»: Судьба, вращающаяся кругом, дала трон, Пусть с троном даст Бог и счастье! [7] ; Пусть покровительствует тебе судьба и не прерывается твое богатство и ищи в своем каждом поступке справедливость [7]. В арабском языке выражение laylatu l-qadr ‘удача, счастье’ (букв. ночь предопределения, ночь могущества) употребляется для выражения неожиданно привалившего счастья, удачи и счастливой судьбы. Это кораническое изречение взято из суры al-qadr о ниспослании Корана и связано с народным верованием в счастливый случай, удачу и счастье. Именно в эту ночь предопределяются срок жизни и богатство людей, а также все, чему суждено произойти в следующем году [2].
Связь судьбы с предстоящим временем, жизнью в целом подводит ее в казахском языке к концепту жол ‘ дорога, путь ’ . Об этом в Коране говорится следующее: «Кого Аллах наставляет на прямой путь, тот идет им. А кого Аллах вводит в заблуждение, те становятся потерпевшими убыток» [12]. В понимании казаха дорога – символ предстоящей жизни, судьбы [16] . Отсюда и исходит их понимание связи концепта судьбы с такими понятиями, как жолы болу ‘повезти’ (букв. ‘ удачливый путь’ , сәттілік ‘удача’). В арабском мировоззрении судьба и есть жизненный путь индивида, который предопределен, предписан богом, с одной стороны, и с другой – выбранный им самостоятельно, о чем гласят пословицы: `idha jā`a al-qadar ‘amiā al-baṣar – ‘Когда подходит предписанное, то глаза слепнут’, `idha aš-ša’bu yauman `arāda al-ḥayātu fa-lā budda `an yastajība al-qadar – ‘Если у людей есть воля, они могут контролировать свою судьбу’.
В казахской картине мира символом судьбы выступает также языковая модель маңдай ‘лоб, чело’, выполняя при этом функцию «этнокультурного кода мировоззрения о происхождении человека и его жизни» [16]. В словарном фонде современного казахского языка и средневековых письменных памятников встречаются свыше тридцати устойчивых словосочетаний с лексемой ‘маңдай’. Например, человеческая судьба интерпретируется через выражение Алланың жазуы: букв: ‘божье письмо’, т. е. то, что написано на роду, то, что предначертано судьбой с рождения – все это складывается в соответствии с судьбой маңдайына жазылған – Тәңірдің, Алланың бұйрығына сай: букв: ‘написано на лбу, по велению Тенгри, Аллаха’. В понимании казахов счастливая судьба выражается оборотами маңдайы ашылды – ‘чело открылось’, маңдайына берген – ‘написано на лбу’ и др., а несчастливая – сор маңдай, маңдайының соры бес елі: букв: ‘несчастливый лоб’ и др. Подобным же образом толкуются языковые единицы кемшілік көрмей, маңдайына тимес – ‘без труда нет счастья’; әкеңнің төріне сенбе, маңдайыңның теріне сен – ‘не надейся на положение отца, надейся на себя’ (на пот, текущий со лба, то есть, трудовой); жатып ішер жалқау қатын сормаңдай ерге тұс келер – ‘ленивая жена, которая только ест-спит, достанется несчастливому мужу’. Такие пословицы демонстрируют важность понятия «чела» как места, на котором «написана» судьба, играющего важную роль в жизни человека. Все эти наблюдения позволяют сделать вывод о том, что понятие маңдай – ‘лоб, чело’ утвердилось как символ судьбы в казахской языковой картине мира.
В казахском языке в большом количестве встречаются языковые модели со словом пешене – ‘участь, судьба’, ‘то, что написано на роду, преднечертано судьбой’, через которые раскрывается содержание концепта судьба . Используемое в иранском языке в значении «участь», «судьба», оно проникло в тюркские языки вместе с распространением ислама, оказав влияние на тюркское миропонимание судьбы. Тюркское миропонимание, пропустив через языковой фильтр слово пешене, соединило культурную картину персов с собственным языком, и таким образом оно в качестве знака вошло в языковую картину мира казахов. Символ, «сохраняя в семантической системе языка особое и совершенно автономное место, … в то же время служит семантическим мостиком, переброшенным от образа к знаку» [3]. Через фразеологизмы пешенеден көрді ‘увидел истоки в судьбе’ реализуется смысл неизбежности судьбы, через выражение пешенесіне жазбаған ‘не судьба’ выражается отсутствие предназначения [11]. Это встречается в «Кутадгу билик» в следующих примерах: А бог не поможет и смерть подойдет – Ну что же, такой уж начертан исход! [6]; И мать и отца всеми силами радуй, Сто крат и сторицею будет расплата!» [6]. Здесь через языковую модель пешене ‘участь, судьба’ передается идея о том, что в жизни человека происходит не то, о чем просит человек, а то, что совершается по воле Всевышнего. Вместе с тем свое образное выражение находит убеждение в том, что забота о родителях, уважение может отразиться на счастье человека.
Концепт судьба также раскрывается через языковые модели, созданные с использованием знака нәсіп ‘доля, судьба’, вошедший через фоне- тическое освоение персидского насиба в значении сыбаға ‘доля’, үлес ‘доля’, нәсібе ‘предназначенное судьбой благо’, тағдыр ‘судьба’, жазмыш ‘предопределение’, сәт ‘удача’. В казахском языке оно употребляется в виде несібе ‘доля, судьба’. Поскольку это наименование является «содержательным образом знака», оно стало основанием ряда образов казахского миропонимания, связанных с судьбой [3]. В казахском миропонимании положения во взаимоотношениях «Тенгри – Алла – Человек» пожелание осуществления чего-либо, удачи в судьбе передается через выражения нәсіп айла – ‘удача в судьбе’; жолы болу – ‘удача при осуществлении предприятия’, бұйыру – ‘предназначение’, сәті түсу – ‘выпадение удачи’ и через конструкции нәсіп айдады//тартты – ‘судьба привела’; неизбежное осуществление, выполнение, судьбой предначертанное выражается через фразеологизмы нәсіп қылды//етті// бұйыртты – ‘случилось то, что суждено’; ‘случилось то, что должно было’ бұйырған нәсіпті көрді [11]. По такому же принципу реализованы фразеологизмы несібесіне берген – ‘предназначено судьбой’; о том, кто ищет судьбу где-то на стороне, вне предназначенного: несібесін жаттан тіледі – ‘просить удачи вовне’; поиск удачи, достатка, предназначенного судьбой: несібе терді – ‘нашел удачу, то, что суждено’; исчезновение достатка, отсутствие изобилия, разорение: несібесі суалды – ‘удача иссохла’//несібесі тандыр болып суалды – ‘удача иссохла, как в печи’ [11]. Ал қонақ өз несібесін ішеді – ‘гость вкусит предназначенное ему’; нәсіп етсе, келер Шам мен Ирақтан, несіп кетсе, кетер қасы-қабақтан – ‘Если суждено прийти – придет через Шам и Ирак, если суждено потерять – уйдет через брови’; жаманмен жолдас болсаң, кесірі жұғар, жақсымен жолдас босаң, нәсібі жұғар – ‘Дружба со скверным человеком может принести неудачу, дружба с хорошим человеком принесет добро’; аттының несібесі – ал-тау, жаяудың несібесі – жалқы – ‘удач у всадника – шесть, удача пешего – одна’. Эти пословицы выполняют функцию донесения религиознокультурной информации о Божьей воле, судьбе, внешней силе, влияющей на судьбы людей. Вместе с тем, согласно религиозному сознанию, человек никогда не может выйти из-под воли судьбы. Если бы судьба человека была в руках человека, то потеряли бы смысл такие понятия, как воля Бога, божий дар, божье наказание. Поэтому в область концепта «судьба» входят и эти проблемы. Это также прослеживается и в арабском языке: kāna min naṣībihi – ему выпало на долю (букв.: оно было из его участи, доли).
Ряд составляющих языковой картины мира казахов, относящихся к концепту судьба, действуют в системе образов, складывающихся в ходе взаимоотношений «жизнь – смерть». В связи с этим имеют место грани соприкосновения концептов судьба и смерть. Не трудно заметить, что главный структурный элемент концепта өлім ‘смерть’ и лексема ажал ‘кончина, гибель’ раскрывают смысл концепта судьбы, поскольку переход образа кончины в языковой знак «определяется факторами экстралингвистического порядка» [4]. Вместе с тем кончина является природным явлением в жизни человека, она совершается по велению Создателя. Человек осознает свое бессилие перед кончиной так же, как и перед судьбой, и принимает «кончину как структурный элемент судьбы» [10]. Поэтому фразеологизму тағдыры жетті – ‘дошла судьба’ придается смысл информации ‘пришел конец’, ‘конец жизни’. Человек всю жизнь борется со смертью. Эта борьба берет начало с мечты человека о вечной жизни и находит свое отражение в легендарных образах казахского фольклора – Коркыта-ата, ищущего «вечную жизнь», Асана кайгы, искавшего жерұйық ‘землю обетованную’, где «жаворонок высиживает яйца на овце», и в арабском фразеологизме `in ‘ājilan `au `ājilan ‘рано или поздно’ (о неизбежном). В исламском вероучении термин `ājal ‘рок, время’, которому созвучна заимствованная казахами лексема ажал, означает неизбежное окончание срока жизни, отпущенного каждому живому существу Аллахом. У казахов сохранилась поговорка Ажал айтып келмейді – ‘Смерть не сообщает о себе’. В Коране встречается также выражение с этим компонентом в значении предопределение li-kulli`ajalin kitābun – ‘для каждого срока есть свое предписание’, что созвучно казахскому концепту жазмыш.
В памятнике орхонской письменности имеются строки: Тағдырды тәңірі жасар, адам баласы өлу үшін туады – ‘Судьбу вершит Тенгри, а человек рожден для смерти’ , которые означают, что кончина приходит как судьба от Тенгри [5]. Подобно этому в «Кутадгу билик»: Барлық адамның тағдыры бір жерде түйіседі, құл да өледі, қожайын да өледі – ‘Судьба всех людей заканчивается одинаково, и раб, и господин умирают’ ; Өлім бар да қаза бар, ажал бар да тағдыр бар – ‘Там, где смерть, – там гибель, где кончина – там судьба’ [5]. В этих пословицах выражена мысль о том, что любая судьба заканчивается кончиной. Таким образом, символы, которые объединяют кончину и судьбу, можно обозначить следующим образом: 1) невозможность спастись от смерти бегством, неотвратимость; 2) разнообразный приход кончины к человеку; 3) отсутствие у человека свободы выбора; 4) в большинстве случаев зависимость кончины от действий человека. В то же время кончина может прийти к кому-то раньше, а к кому-то позже.
Концепт «судьба» в жизни любого народа имеет отношение к могущественной силе, неподвластной воле человека. Взаимоотношения Бога и Человека, признание человеком сил, неподвластных ему, подчинение ему и принцип жизни человека по божьему велению – все это нашло всестороннее отражение в концепте судьба и закрепи- лось в языковых моделях. В миропонимании древних тюрков понятие судьбы соприкасается с понятиями Тенгри: «Teŋіri yarïlqazu» – ‘благословения Тенгри’ [14]. Тенгри–судьба, берущие свое начало с гунской эпохи, неразрывно связанные понятия в тюркском миропознании. Например, в таких языковых моделях Umunč Teŋrige tut – ‘надежду ожидай от Тенгри’ [19]; Teŋri meniŋ ıšım etti – ‘Тенгри направил на правильный путь’ [19]. Понятия Тенгри и судьба становятся неразделимыми и в дальнейшем находят свое развитие в новой для тюрков религии – исламе. Это понимание нашло конкретное отражение в средневековых памятниках: Создал Аллах вначале судьбу, признай и покорись ей! [7]; По велению судьбы, я был в Раю среди райских дев [18] и т. д.
Нельзя не упомянуть и о том, что понятие судьбы в арабской культуре доисламского периода ярко представлено в древней поэзии. Доисламская Аравия, мир, из которого родился ислам, хорошо знала образ Судьбы – высшей силы, господствующей над поступками и жизненными путями людей. Более того, острое ощущение бессилия и ничтожности человека и народов перед непререкаемым ходом судьбы было одной из характерных черт мировоззрения аравийцев [15]. Поэты доисламского периода Аравии рассматривали концепцию времени dahr, zamān как нечто непреодолимое, властное над человеком, не зависящее от его воли и предначертанное свыше. Время вмешивалось в жизнь людей, определяло их дальнейшее существование, приносило несчастья или процветание. По представлениям поэтов «время и есть судьба мира. Это чередование дней и ночей, которое определяет все, что в них происходит и существует» [15]. И не случайно в арабском языке используются фразеологизмы с компонентами dahr, zamān, передающие значения подвластности человека времени, судьбе: nazala bi-hi az-zamān – ‘судьба сурово обошлась с ним’ (букв. время высадило его);‘afā ‘alayhi az-zamān (ad-dahr) – ‘состариться’ (букв. время стерло, уничтожило его). В значении судьба, рок и несчастья используются метафоричные словосочетания с компонентом dahr: yadu ad-dahr – ‘рука судьбы’ (субъект действия), banātu ad-dahr – ‘несчастья’ (букв. дочки судьбы). В многочисленных арабских устойчивых словосочетаниях понятие судьбы выступает как божественная сила. В составе арабских фразеологизмов главный компонент судьба не переосмысляется. Однако в отдельных случаях в зависимости от сочетания слов используются другие значения лексем. Например, слово qadr судьба, сочетаясь с глаголом yaḥuṭṭu ‘класть, ставить, умалять’, может использоваться в другом значении: yaḥuṭṭu min qadrihi ‘умалять чье-то достоинство’. Известно, что словом qadr названа 97-я сура Корана Al-qadr (Предопределение). Другой фразеологизм ṣurūfu ad-dahr ‘превратности судьбы’, в составе которого присутствует компонент dahr ‘время, эпоха’, иcпользуется для выражения неблагоприятных жизненных обстоятельств, судьбы. В древности это фразеосочетание употреблялось в аналогичном значении, что подтверждается комментарием в толковом словаре Ибн Манзура (ум. 1311): «Так говорят, когда что-то (удача) отворачивается от их лиц (от них) и меняет положение вещей» [20]. С тем же элементом в значении судьба используется выражение`akala‘alayhi ad-dahr wa shariba – ‘жизнь состарила его’ (букв.: время съело и выпило его), которое реализуется в речи как в отрицательной, так и в положительной коннотации: 1) устаревание, старение; 2) долгая жизнь, большой опыт. Главный компонент атрибутивного устойчивого словосочетания qaḍā`un mubramun – ‘полное уничтожение, окончательная ликвидация, искоренение, навсегда покончить’, где qaḍā`un дериват глагола qaḍā – ‘решать, предопределять’ используется в другом значении слова – ‘уничтожение, ликвидация’. Оборот jarafathu al-`aqdāru – ‘его унесла, смыла судьба’ выражает отрицательные последствия, случившиеся из-за стечения обстоятельств.
Заключение
Тюрки и арабы, как и все народы, свои накопленные знания о мире, архаические формы этнокультурных информаций, т. е. картину мира, представления и понятия о мире изображали, моделировали, хранили и передавали через устойчивые образные обороты. Через концепт судьба можно увидеть исторические этапы развития национального менталитета, начиная с представлений тюркского лингвокультурного сообщества о картине мира, берущих свое начало с древних пластов национального сознания. Вместе с тем мы попытались проанализировать устойчивые словосочетания двух лингвокультур, передающих самобытность этнического миропонимания и миропознания, неповторимые особенности их восприятия и понимания. Концепт судьба является национально-языковой моделью познания мира и национальным духовно-культурным источником глубоких философских воззрений тюрков и арабов о реальной действительности.
Список литературы Концепт "судьба" в казахской и арабской языковых картинах мира
- Аль-Ашкар, У.С. Судьба и предопределение / У.С. Аль-Ашкар. - М.: Мир, 2008. - 118 c.
- Аль-Кадр, сура 97. Толкование ас-Саади. - http://quran-online.ru/97/saadi (дата обращения: 07.11.2017).
- Арутюнова, Н.Д. От образа к знаку / Н.Д. Арутюнова // Мышление. Когнитивные науки. Искусственный интеллект. - М.: Наука, 1988. - C. 147-162.
- Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. - М.: Языки русской культуры. 1999. - 896 c.
- Бабалар сөзi. Астана: Фолиант, 2010. 66-том. 350 б.
- Баласағұн, Ж. Құтты бiлiк / Ж. Баласағұн. - Алматы: Жазушы, 1997. - 616 б.
- Баласағұни, Й. Құтадғу бiлiк: Құт әкелетiн бiлiм / Й. Баласағұни. - Астана: Ғылым, 2015. - 576 б.
- Бизақов, С. Синонимдер сөздiгi / С. Бизақов. - Алматы: Арыс, 2007. - 640 б.
- Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / В.И. Даль. - М.: Дрофа, 2011. - Т. 4. - 669 c.
- Жиренов, С. Ғаламның тiлдiк бейнесi: «Өмiр-Өлiм» концептiсiнiң танымдық табиғаты: Филол. ғ.канд. дис. / С. Жиренов. - Алматы, 2007.
- Кеңесбаев, I. Қазақ тiлiнiң фразеологиялық сөздiгi / I. Кеңесбаев. - Алматы: ҚазАқпарат, 2007. - 356 б.
- Коран / пер. с араб. М.-Н.О. Османова; отв. ред. А.А. Магомедов. - М.; СПб.: ДИЛЯ, 2011. - 928 c.
- Қазақ тiлiнiң түсiндiрме сөздiгi. - Алматы: Дайк-Пресс, 2008. - 968 б.
- Письменный памятник Культегин. 29 строка. - http://bitig.org/?lang=r&mod=1&tid=22&oid=15&m=1 (дата обращения: 19.11.2017).
- Понятие судьбы в контексте разных культур / отв. ред. член-корр. РАН Н.Д. Арутюнова. - М.: Наука, 1994. - 320 c.
- Сағидолда, Г. Түркi-моңғол дүние бейнесiнiң тiлдiк фрагменттерi/ Г. Сағидолда. - Астана: Сарыарқа, 2011. -302 б.
- Сахих Муслим. Книга о предопределении, хадис 2653 / Муслим Сахих. - http://hadis.info/46-kniga-o-predopredelenii/873/ (дата обращения: 05.11.2017).
- Сыздықова, Р. Көптомдық шығармалар жинағы / Р. Сыздықова. Алматы: Ел-шежiре, 2014. - Т. 7: Ясауи «Хикметтерiнiң» тiлi.
- Divanü Lügat-it-Türk tercümesi. Çeviren Besim Atalay, 3 cilt. - Ankara: Türk tarih kurumu basimevi, 1985. - T. 1. - 768 p.
- Ibn Manzur Lisа̄n al-‘arab. - Beirut, 1968. - V. 9. - 366 p.
- Karşılaştırmalı Türk lehçeleri sözlüğü / [hazırlayanlar]: Ahmet Bican Ercilasun... [et al]. Cilt: I. Ankara: Kültür Bakanlığı, 1991.