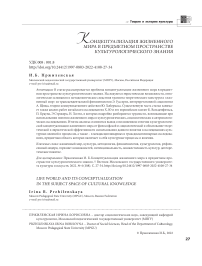Концептуализация жизненного мира в предметном пространстве культурологического знания
Автор: Пржиленская Ирина Борисовна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (108), 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема концептуализации жизненного мира в предметном пространстве культурологического знания. Исследуются эвристические возможности, онтологические основания и методологические следствия транзита теоретического конструкта «жизненный мир» из трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля, интерпретативной социологии А. Щюца, теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Существенную часть статьи занимает также анализ работ китайского исследователя Х. Ю и его европейских коллег Б. Вальденфельса, П. Брауна, Э Строкера, Н. Хилти, в которых подробно разбираются трудности, возникающие при использовании понятия жизненного мира в культурологических, социологических и антропологических исследованиях. Итогом анализа становится вывод о несомненном отличии культурологической концептуализации жизненного мира от философской и социологической и обоснование теоретической и эвристической эффективности использования данного понятия в исследованиях культурных явлений и процессов, а также - в междисциплинарных и трансдисциплинарных исследованиях, предметная область которых включает в себя культурные процессы и явления.
Жизненный мир, культура, методология
Короткий адрес: https://sciup.org/144162480
IDR: 144162480 | УДК: 008 | DOI: 10.24412/1997-0803-2022-4108-27-34
Текст научной статьи Концептуализация жизненного мира в предметном пространстве культурологического знания
«Жизненный мир» (нем. Lebenswelt) из простого словосочетания превратился в философское понятие, а затем и в научный термин, имеющий хождение в социологии, культурологии и ряде других социогуманитар-ных наук благодаря Э. Гуссерлю. В 1936 году вышел в свет его работа «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология», в которой понятие жизненного мира было введено для преодоления трудностей, возникших в теории познания и философии науки в связи с неопределенностью таких понятий, как «реальность», «истина», «обоснованность» и др. Чем сложнее становились схемы соединения теоретических абстракций и экспериментальных измерений в стремительно развивающемся естествознании, тем труднее было разобраться в явных и неявных допущениях, принятых в разное время и по разному поводу теоретиками и экспериментаторами. Попытки выявить и описать эти допущения привели Э. Гуссерля к стремлению реконструировать не только научные, но и донаучные основания науки. Жизненный мир мыслится основоположником феноменологии как дотеоретиче-ский и донаучный, он состоит из значений и смыслов, которые мы приписываем вещам и событиям. Э. Гуссерль видит в нем забытый смысловой фундамент естествознания, кото- рый делает возможным фоновое понимание, благодаря которому, в свою очередь. научная объективизация знания становится осмысленной [1, с. 74].
Гуссерль изучал феномены сознания, беря в качестве примера мышление как таковое, при этом вполне в духе немецкой философской традиции различая теоретическое и повседневное. Но когда его мысли заинтересовали социологов, они обратились к понятию повседневности как к подлинному источнику вдохновения. А. Щюц, признавая зависимость собственных идей от феноменологии Э. Гуссерля, создал свое собственное учение о жизненном мире, получившее название феноменологической или интерпретативной социологии. Одни понятия трансцендентальной феноменологии остались «за кадром», другие оказались переосмыслены и переопределены. Среди унаследованных терминов, помимо самого концепта жизненного мира, в социологии А. Щюца важную роль играют понятия повседневности, интенциональности, тематизации, горизонта и др. Но – помимо гуссерлианской феноменологии – здесь чувствуется влияние социологов М. Вебера, Дж. Г. Мида, Т. Парсонса, что делает рассматриваемую концепцию полноправной социологической теорией.
Таким образом, дисциплинарнотеоретическая адаптация философского понятия к предметному пространству социологии прописана и обоснована, хотя для этого пришлось разработать новые методы социологического исследования и фактически инициировать создание качественной социологии, обозначив всю предшествующую как количественную . Поскольку в культурологии не было своего Щюца, вопрос о том, в какой степени обращающиеся к понятию жизненного мира исследователи культуры используют концептуальные наработки гуссерлианской философии, а в какой придерживаются доктринальных основ интерпретативной социологии, остается открытым и обсуждаемым.
Одним из тех, кто обращается к теме эвристических возможностей понятия жизненного мира в культурологии, является китайский исследователь Чун-чи Ю (Chung-chi Yu). Он сопоставляет концепции Э. Гуссерля и А. Щюца на предмет их релевантности культурологической проблематике, а также – их способности объяснять явления культуры и описывать объекты культурной реальности. По мнению Ч. Ю, в концептуальном пространстве культурологического знания понятие жизненного мира присутствует не в гуссерлевской, а в щю-цевской редакции.
Исходя из очевидного и неоспоримого факта сосуществования различных культур, он делает вывод о том, что это обстоятельство может быть учтено лишь в рамках подхода А. Щюца, который понимал жизненный мир как область практики с социальными и культурными характеристиками. «В отличие от Гуссерля,– отмечает Ч. Ю,– Шюц интегрирует культурные различия в свою теорию жизненного мира… Основываясь на своем стремлении заложить основы социальных наук, Шюц сначала представляет жизненный мир как мир практики и социальности, а затем в своих более поздних работах, осознавая важность культуры, он переформулирует жизненный мир как мир практики в социокультурный мир. Поскольку каждый жизненный мир имеет свою особую культуру, отсюда сле- дует, что жизненные миры отличаются друг от друга» [7, с. 181].
Ч. Ю рассматривает обе концепции жизненного мира – гуссерлевскую и щюцевскую – как европоцентричные. Более того, он ссылается на Б. Вальденфельса, в работах которого аргументируется тезис о связи европоцентризма со специфически феноменологической те-матизацией проблемы оснований, которая в большей степени проявляется в концептуализации жизненного мира Э. Гуссерлем, нежели А. Щюцем [6]. Ч. Ю задается вопросом о том, как могла бы выглядеть новая концепция относительно взаимосвязи между жизненным миром и культурными различиями без идеи обоснования. Из двух возможных ответов, один из которых сводится к тезису о множественности жизненных миров, а второй утверждает универсальность одного единственного жизненного мира, китайский исследователь, несмотря на различия между культурами, выбирает первый. При этом он обосновывает свой выбор ссылкой на другую работу Б. Вальденфельса, где последний доказывает, что идея универсальности вовсе не является нежелательной, если мы можем допустить парадокс «универсализации во множественном числе» (Universalisierung im Plural) [6]. Нельзя, по мнению Б. Вальденфель-са, утверждать, что культура создает порядок. Напротив, именно культура порождает стремление к универсализации своих оснований, которые вовсе не универсальны. «Универсаль-ность,– пишет Ч. Ю,– является результатом универсализации и без исключения порождена определенной культурой, она не может не оставаться контекстной. Если мы увидим, что каждая культура имеет свой способ универсализации и свою идею универсальности, нет причин, по которым этот способ универсализации следует отвергать и не признавать ее идею универсальности» [7, с. 186].
Ч. Ю убежден, что понятие жизненного мира применимо в исследованиях культуры только в контексте преодоления дихотомии «уникальное – универсальное». Множественность культур в обязательном порядке порождает и множественность жизненных миров, хотя в эпоху глобализации культуры активно взаимодействуют и взаимно обогащают друг друга. Результатом взаимодействия, по мнению Ч. Ю, неизбежно станет общий для всех людей культурный мир с общепринятыми нормами и ценностями. Но при этом важно, подчеркивает китайский исследователь, чтобы формирование единого культурного пространства осуществлялось не за счет экспансии более развитых обществ, стремящихся навязать свою культуру всем остальным, а лишь посредством взаимного признания и понимания.
В более поздних своих работах Ч. Ю переходит к анализу специфики культурных объектов с точки зрения концептуализации жизненного мира. Э. Гуссерль полагал, что в основе единого и универсального жизненного мира человека лежат не менее универсальные структуры сознания и основанные на этом структуры повседневного опыта. «Даже если мы согласны с тем, что встреча с культурными объектами – знакомыми или незнакомыми – обозначает встречу с интенциональной структурой, это не означает, что каждый раз, когда мы сталкиваемся с культурными объектами, мы становимся свидетелями общности всех культурных объектов только из-за лежащей за ними универсальной структуры. Разнообразие культурных объектов делает так, что, в частности, встречаясь с незнакомыми, мы становимся свидетелями непонятных свойств в них. По мере того, как мы знакомимся с ними лучше, узнаем об их значении, мы расширяем свой кругозор познания» [8, c. 539]. Таким образом, говоря об универсалиях культуры, мы не отрицаем многообразия культур, но лишь признаем факт того, что все культуры имеют схожие признаки и даже схожую структуру. Но при этом мы понимаем, что содержание жизненного мира определяется содержанием значений и смыслов, составляющих специфику культур, и у каждой такой культуры набор значений и смыслов будет различным.
Дальнейшее прояснение эвристических возможностей понятия жизненного мира в исследованиях культуры целесообразно направить на анализ примеров его рассмотре- ния в современной научной литературе в связи с понятием культуры. Результатом данного анализа становятся примеры соотнесения данного термина с понятиями научности, рациональности, неопределенности, риска и даже безопасности. П. Браун, исследующий понятие риска в сфере заботы о здоровье человека и анализирующий в этой связи прогностические возможности современных теорий действия, предложил использовать концепт жизненного мира как действенную альтернативу понятию рациональности [3]. Преимуществом данного концепта является, по его мнению, возможность многофакторного анализа, в котором тремя равноправными факторами выступают культура, общество и идентичность, в то время как классические концептуальные конструкции, основанные на тематизации рациональности, основывались лишь на учете одного из них, главным образом, социального.
П. Браун обращает внимание на значение культурных процессов, результатом которых становится формирование социальных фреймов и легитимации. Концепция жизненного мира как символического универсума, обусловленного культурой, позволяет лучше понять социальные и психологические механизмы осознания индивидами своих возможностей заботы о собственном здоровье, внутреннем равновесии и благополучии, в то время как обсуждение этих проблем в контексте теории рационального действия представляется ему малопродуктивным.
В концепции П. Брауна важные функции выполняет феноменологическое по своей сути понятие горизонта будущих возможностей. Само понятие горизонта будущих возможностей П. Браун заимствует у Ю. Хабермаса, чью интерпретацию понятия жизненного мира также можно считать и социально-философской, и социологической, и культурологической. Более того, концепция Ю. Хабермаса дает интересный вариант теоретического осмысления и практической операционализации отношений общества и культуры: немецкий исследователь соотносит общество, культуру и идентичность с тремя измерениями жизненного мира.
Предложенная автором теории коммуникативного действия формула общества «система + жизненный мир», обычно трактуемая самим автором и его последователем как соединение двух социально-теоретических понятий, вполне может быть истолкована в духе междисциплинарности или даже трансдисциплинар-ности. Во многом это соответствует духу теоретизирования Ю. Хабермаса, не признающего различения между философией и социологией и описывающего жизненный мир в контексте социальной динамики и понятия горизонта будущих возможностей. «Такая динамика,– писал Ю. Хабермас,– изменяет горизонты жизненного мира, звенья социальной интеграции, свободные пространства для разнообразных жизненных миров и индивидуальных жизненных проектов. Укрепление или ослабление границ еще ничего не говорит об открытости или закрытости сообщества. В этом отношении интересна не столько непрерывность границ, сколько интерференция двух форм координации социального действия – “сетей” и “жизненных миров”» [2, c.127].
П. Браун критически оценивает теорию концептуализации жизненного мира Ю. Хабермаса, хотя и признает ее влияние на свои построения. Преодолеть избыточный социологизм теории социального действия ему помогают работы таких авторов, как Г. Мел-леринг (2001), Т. Хорлик-Джонса и Зинн (2008), что позволяет углубить психологическое и экзистенциально-личностное измерения понятий горизонта будущих возможностей и самого жизненного мира. Эта инициатива продиктована спецификой предмета исследования – связи здоровья человека и его внутреннего мира, где эмоциональное встречается с рациональным, а социальное с экзистенциальным и психологическим. Именно так понятия горизонта будущих возможностей и жизненного мира оказываются связаны с понятиями неопределенности, уязвимости, риска и надежды.
Следуя феноменологической традиции, П. Браун выносит за скобки понятие неопределенности. Ему это удается при помощи обращения к таким формам внутреннего опы- та, как доверие и надежда, хотя он и осознает ограничения, налагаемые более широкими культурными нарративами и социальными обязательствами. В качестве примера здесь берется надежда на неопределенное будущее, испытываемая индивидами в контексте призрака ракового заболевания; анализ этой надежды как раз и расщепляется по трем линиям жизненного мира: общества, культуры и идентичности. «Словарь надежды,– пишет П. Бра-ун,– стал возможным благодаря более широкому культурному дискурсу, посредством которого рассматриваются понятия истины и на которых основывается категоризация; где надежды также могут быть оправданы, востребованы или подорваны в результате взаимодействия и более широкого социального опыта (общество Хабермаса); и где надежда в определенных условиях кажется (не) подлинной в свете социализированной идентичности человека, укорененной в его социобиографии» [3, c. 342]. П. Браун убежден в неэффективности любых концептуализаций «индивидуальной» рациональности: невозможно понять и объяснить причины возникновения и исчезновения доверия как на индивидуальном, так и на коллективном уровне, если не проследить их культурные корни и культурные смыслы, позволяющие оценить значение этих феноменов. Хороший пример, подтверждающий рассуждения П. Брауна, дают материалы исследований коллективного недоверия к вакцинации от вируса CARS COVID 19 и значения культурных особенностей этого процесса в разных странах мира. Таким образом, П. Браун фиксирует посредством понятия жизненного мира его интерсубъективность с отсылкой к культуре, а не к обществу. Понимание другого не в описании им действительности или в объяснении им отдельных наблюдаемых явлений, а в стремлении этого другого совладать с неопределенностью через надежду, доверие и другие подобные средства – вот какова, по мнению П. Брауна, отличительная особенность концептуализации жизненного мира в предметном пространстве культуры.
Анализируя возможности рассмотрения жизненного мира как культурного феномена, немецкий исследователь Э. Строкер [5] развеивает миф о естественнонаучном происхождении этого понятия. В трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля жизненный мир определялся как нечто естественное, но не в смысле отнесения его к ведомству естествознания, а в связи с понятием естественной установки, которая связана в единой теоретической конструкции с понятиями сознания и феноменологической редукции. Между тем само обращение к понятию жизненного мира даже у основоположника феноменологии давало основание видеть связь сознания с культурой. «Жизненный мир,– отмечает Э. Строкер,– на первый взгляд воспринимаемый как мир, в котором мы живем, как мир, постоянно присутствующий в нашей жизни, данный нам не рефлексивно, но, несмотря на свою данность, он является не просто естественным, а культурным миром, поскольку мы погружены в него вместе со всей нашей деятельностью, направленной на реализацию целей в соответствии с ценностями и нормами, присущими любой из сфер практической жизни» [5, c.303–304].
Э. Гуссерль придавал значение тому, что жизненный мир является донаучным – иначе его нельзя было бы использовать при решении проблемы оснований. Как утверждает Э. Строкер, предикат «донаучный» может функционировать здесь только как квалификатор, потому что в феноменологической теории он не становится научным даже после возникновения и успешного развития науки. По ее мнению, даже архаичные культуры и порождаемый ими жизненный мир нельзя квалифицировать как донаучный, потому что развитие этих культур не предполагает неизбежного возникновения науки. Как известно, лишь в рамках одной культуры – европейской – итогом стала современная наука, а тезис о едином столбовом пути цивилизации пока не признан фактом. Поэтому жизненный мир архаичной культуры не является ни научным, ни донаучным. И лишь реконструкция истоков геометрии или предыстории галилеевской механики могут позволить рассуждать о донаучном жизненном мире. Но этот взгляд, утверждает Э. Строкер, изначально является ретроспективным: приоритет жизненного мира в качестве донаучного может быть представлен либо как временной и исторический приоритет, либо как систематический.
Актуализация понятия жизненного мира как собственно-культурологического возрастает в исследованиях социальных и культурных эффектов современности. Жизнь современного человека – это, как правило, жизнь в быстро меняющемся мире. Специфику внутреннего восприятия этого образа жизни можно осмыслить при помощи понятий психологии, обращаясь к понятиям ментальности, личности, самосознания. Социологи в этом случае чаще всего говорят о внутренней мобильности и прекарности. Несмотря на наличие нескольких альтернатив следует признать, что в культурологии понятие жизненного мира вполне подходит для описания того динамичного состояния, в котором, как правило, помимо собственной воли пребывает современный человек. Удачный пример такого использования интересующего нас концепта дает швейцарский исследователь Н. Хилти, который вводит понятия мульти-локальности применительно к жизни и, как следствие, мульти-локального жизненного мира (мulti-local lifeworlds) [4].
Явление жизни в разных местах, характерное, прежде всего, для современного Евросоюза, стало возможно благодаря развитию возможностей современного транспорта и постиндустриальной экономики. Как и все остальные явления человеческой жизни, оно имеет – помимо антропологического, психологического, социального и экономического – также культурное содержание. Более того, как показало исследование Н. Хилти, будучи вызвано экономической необходимостью и доставляя ведущим такой образ жизни индивидуальные страдания, это явление признается культурно-продуктивным, хотя, доведенное до крайней формы, становится антропологически разрушительным.
Н. Хилти с самого начала своего (в общем-то, социолого-культурологического)
исследования декларирует приверженность теории жизненного мира А. Щюца и качественных методов, в частности, полуструктурированных интервью. При этом используются идеи Б. Латура и У. Бека, согласно которым социальные явления (позднего модерна) не могут быть объяснены и поняты с помощью дихотомического мировоззрения. Можно даже рассматривать мульти-локальный жизненный мир в терминах теории рефлексивного модерна У. Бека, предлагавшего для описания культуры этой стадии модерна понятие «меланжевый феномен». Как к ткани типа меланж относят материалы, при изготовлении которых используют пряжу разного цвета, толщины и фактуры, так и социокультурные эффекты рефлексивного модерна прочитываются через знаки и символы, не образующие единства.
Взаимосвязь жизненных ситуаций и соответствующих культурных контекстов оказывается актуальной для каждого индивида, поскольку культурный рисунок его жизненного мира фрагментарен, он составлен фрагментами, каждый из которых отсылает к одному из мест и имеет смысл только для этого отдельного человека. Окружающие разделяют с ним лишь один фрагмент его жизненного мира, что делает интерсубъективность также фрагментарной и непоследовательной. «Эмпирический взгляд на масштабы проявлений мульти-локальной жизни показывает удивительную сложность, амбивалентность и динамику этого явления. Прежде всего, именно серые зоны являются ключом к практике мульти-локального, которым уделяется особое внимание в исследовании. Это явление сопротивляется упрощению оценок с использованием противоположных терминов, таких как работа по сравнению с отдыхом, сила по сравнению с добровольностью или мобильность по сравнению с работой» [4, c.12]. Невозможно, по мнению автора, ни объяснить, ни описать сложность и причудливость внутренней жизни человека, проживающего в нескольких разных местах, не обращаясь к понятию жизненного мира, причем ставя его в контекст культуры, а не общества. Лишь множественность культур может объяснить множественность жизненных миров, совмещающихся в сознании одного и того же человека.
Следует отметить, что в работе показаны примеры анализа применения понятия жизненного мира в культурологических исследованиях, а также в исследованиях культурных процессов и явлений в смежных областях – социологии культуры, социологии коммуникаций, этносоциологии. Как было отмечено выше, значение и смысл жизненного мира первоначально были концептуализированы в философской системе Э. Гуссерля и в феноменологической социологии А. Щюца, но их использование для описания культурной жизни имеет существенные отличия, что и стало предметом рассмотрения в настоящем исследовании. Разделяя известный тезис о том, что значение термина – это его употребление, автор приводит примеры, в которых данный термин используется в предметном пространстве культурологического знания.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что понятие жизненного мира не только возможно, но и необходимо использовать в исследованиях культурных процессов и явлений, а также культуры в целом. Что касается проблемы культурологической концептуализации жизненного мира, то здесь, несомненно, приоритетным выступает опыт феноменологической социологии, хотя и в трансцендентальной феноменологии есть еще немало теоретически и методологически ценного, что и показали сравнения жизненного мира с наукой, теорией и социальными системами. Обращение к культурным практикам, таким как оценка риска и принятие управленческого решения, а также сосуществование различных жизненных миров в сознании человека, периодически живущего в нескольких местах, подтверждают гипотезу о частичном совмещении методов культурологии и социологии. Таким образом, не только в изучении культуры методами культурологии, но и в междисциплинарных и трансдисциплинарных исследованиях обращение к понятию жизненного мира оправдано и даже необходимо.
L
Список литературы Концептуализация жизненного мира в предметном пространстве культурологического знания
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2004. 400 с.
- Хабермас Ю. Постнациональная констелляция и будущее демократии // Логос. № 4-5(39). 2003. С. 105-152.
- Brown, Patrick. From rationalities to lifeworlds: analysing the everyday handling of uncertainty and risk in terms of culture, society and identity, Health, Risk & Society, Vol. 18, Nos. 7-8. 2016. Pp. 335-347.
- Hilti, Nicola. Multi-local lifeworlds: between movement and mooring. // Cultural Studies 30(3). February, 2016. Pp.1-16.
- Ströker, Elisabeth. Science and Lifeworld: A Problem of Cultural Change Human Studies. Vol. 20, No. 3 (Jul., 1997), Pp. 303-314.
- Yu, Chung-Chi. Life-World and Cultural Difference: Husserl, Schutz, and Waldenfels (Orbis Phaenomeno-logicus Studien) Paperback - 1, Oct., 2019. Band 47.
- Yu, Chung-Chi. Lifeworld, Cultural Difference and the Idea of Grounding. In: Carr D., Chan-Fai C. (eds) Space, Time, and Culture. Contributions to Phenomenology (In Cooperation with the Center for Advanced Research in Phenomenology), vol 51. Springer, Dordrecht. 2004.
- Yu, Chung-Chi. Husserl and Schutz on Cultural Objects // Investigaciones Fenomenológicas, vol. Mono-gráfico 7, 2018. Pp. 523-540.