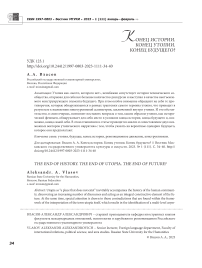Конец истории. Конец утопии. Конец будущего?
Автор: Власов Александр Александрович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 1 (111), 2023 года.
Бесплатный доступ
Утопия как «место, которого нет», неизбежно сопутствует истории человеческого сообщества, открывая для себя все большее количество дискурсов и выступая в качестве неотъемлемого конструирующего элемента будущего. При этом особое внимание обращают на себя те противоречия, которые обнаруживаются в рамках трактовки самого термина утопия, что приводит в результате к выявлению многоуровневой асимметрии, заключенной внутри утопии. И это обстоятельство, в свою очередь, позволяет поставить вопросы о том, каким образом утопия, как исторический феномен, обнаруживает для себя место в условиях конца истории, конца будущего и, возможно, конца самой себя. В этом отношении в статье проводится анализ и сопоставление двух возможных векторов утопического нарратива с тем, чтобы указать на вероятные сценарии будущего, которое они предполагают.
Утопия, будущее, конец истории
Короткий адрес: https://sciup.org/144162717
IDR: 144162717 | УДК: 123.1 | DOI: 10.24412/1997-0803-2023-1111-34-40
Текст научной статьи Конец истории. Конец утопии. Конец будущего?
У-топос , буквально «который нигде не встречается», – это понятие, которым мы обязаны английскому философу Томасу Мору. Именно в его «Утопии», опубликованной в 1516 г., впервые использовано это понятие, а, в свою очередь, успех самого произведения сделал этот термин популярным.
Утопия Мора – это остров с лучшей формой правления в мире. Однако к настоящему моменту понятие утопия отмечено весьма широким семантическим разнообразием. Из чего можно заключить, что само определение утопии становится проблематичным по нескольким причинам. Во-первых, исследования утопии затронули целый ряд дисциплин: достаточно указать ее воздействие на историю, литературу, культурную антропологию, на изучение политических теорий, а также – на психологию и философию. Следовательно, каждая из этих дисциплин вошла в область утопии со своим собственным методом, со своими понятиями, что способствовало не только расширению перспектив утопии, но и усложнению ее определения. При этом, такое междисциплинарное распространение утопии также привело и к дальнейшей радикализации разделения в определениях утопии между обычным использованием этого термина и его использованием специалистами отдельных научных дисциплин. Ко всему этому добавляется еще и идеологическая проблема в подходе к утопии между теми, кто рассматривает утопию положительно, и теми, кто рассматривает ее отрицательно; между теми, кто видит в утопии идеал со- вершенства, и теми, кто уничижительно видит в утопии отображение нежелательной реальности [12, c. 12].
Таким образом, поставить проблему определения утопии – значит также поставить проблему ее ограничения по отношению к различным способам мышления, а также попытаться прояснить разветвления и расширения, которые этот термин приобрел с момента его образования Томасом Мором. В этом ключе, ссылаясь на проведенный анализ И. В. Желтиковой и Д. В. Гусева, можно говорить о (порядка) четырнадцати значениях этого термина, функционирующих в современных научных и научно-популярных русскоязычных текстах, среди которых в рамках настоящей статьи следует выделить рассмотрение утопии в качестве образа желаемого будущего [2, c. 43].
Распространившись за пределы литературного жанра и войдя в рамки политического дискурса, утопия стала обозначать любой проект совершенного общества, которое при этом может быть как химерическое (и поэтому названное так уничижительно) или, напротив, общество, которое, содержит в себе принцип реального прогресса, основание и стимул для лучшего будущего. Тем не менее такого рода двоякое прочтение утопии как социального проекта выступает всего лишь началом диалектической игры противоречий, сопутствующих этому понятию, что приобретает особый смысл в контексте «трех концов» (конец истории, конец утопии и конец будущего), вынесенных в заглавие этой статьи.
В первую очередь, имеет смысл обратиться к вопросу о том, считать ли утопию законченным, идеальным и статичным проектом или, напротив, – динамичным и подвижным. Традиционно утопия представляет собой рационализированное общество в замкнутом пространстве. Это государство, закрытое от внешнего воздействия и, таким образом, не подвергающееся каким-либо изменениям [15]. Аргументы в поддержку тезиса о закрытости и статичности утопии можно обнаружить у Э. Я. Баталова, который считал, что последователи утопий в своем целеполагании всеобщего счастья опираются на незыблемые догмы: «Что такое утопия в пределе? – Это совершенный, а потому мертвый мир, которому просто некуда развиваться» [1, c. 270]. Похожая точка зрения обнаруживается и у других авторов. Так, например, А. В. Петрухин и Л. Я. Курочкина утверждают, что «идеал как качественное состояние всегда статичен. Утопия, являясь неким постулатом, – это всегда конечный результат, некая завершенная, логически замкнутая система, развитие в которой не имеет места» [8, c. 252]. И в этом отношении утопия выступает как тот самый химерический антипод гуманизма, тогда как последний понимается как подвижный конструктивный подход, допускающий плюралистические и неидеальные модели дальнейшего развития общества. Однако можно обнаружить и противоположную точку зрения. Так, например, французский исследователь Ж. Лабрика рассматривает утопизм как живой образ будущего и не признает в нем догматизма. Лабрика указывает на критичность утопического подхода по отношению к существующему обществу, а также – на создание утопистами альтернативных вариантов будущего [6, c. 290]. Подобную точку зрения разделяет К. Н. Захарова, которая указывает, что для утопии нашего времени характерен новый взгляд на саму себя, «взгляд множественный, полифоничный, плюралистичный» [3, c. 121]. Утопии свойственна открытость и динамичность, подтверждением чему слу- жит прогноз, который еще в 1905 г. предложил Г. Уэллс: современная утопия не может быть статичной, она должна стать динамичной; из застывшей формулы она должна превратиться в переходную фазу, за которой, непрерывно сменяясь, последуют другие [9].
Таким образом, статичное или динамичное понимание утопии приводит к различным моделям конструирования будущего, которое выстраивается в том или ином социальном проекте утопии. То есть, речь идет либо об археологии будущего (в случае понимания утопии как идеального и законченного проекта), когда из картины прекрасного будущего берутся образы для несовершенного настоящего. Либо (в случае интерпретации утопии как динамического и многогранного проекта) образ будущего создается на основе критики плохого настоящего . Следовательно, будущее может быть рассмотрено как линейно (когда утопия представляет собой его пассивное ожидание), так и вариативно и творимо (в случае, если утопия предполагает принцип его конструирования). В этой связи интересно обратить внимание на сохраняющийся революционный характер утопии, который при этом радикально меняет свой вектор в зависимости от трактовки исходного понятия.
Будучи критикой относительно существующей реальности, утопия обнаруживает две модели революционного действия. Первая связана с коренными преобразованиями несовершенного общества в настоящем с целью создания лучшего места (и в этом случае у-топия – «место, которого нет» – приобретает характеристики эу-топии – «благого места»). Вторая модель, напротив, демонстрирует возвратное движение (revolutio в своем изначальном, астрономическом значении), когда идеальной моделью общества становится некогда утраченная форма социальной организации (идея потерянного рая). И, несмотря на то, что традиционно подобный подход скорее характерен для тутопии [4, c. 180], именно на эту тенденцию постмодернистской утопии указыва- ет французский исследователь Э. Морин: «Реальность настоящего отмечена невидимым падением – невидимым, потому что ушло много времени на то, чтобы это осознать – огромного метеорита. Как и в случае с упавшим в конце вторичной эры большим метеоритом, которому приписывают вымирание динозавров, это падение надолго покрыло всю землю облаками. Этот новый метеорит не нацелен на динозавров, чтобы их уничтожить. Его цель – наше будущее: гарантированное развитие, этот «никелевый» прогресс, непрерывное улучшение, которое руководило нами и вселяло в нас надежду. Итак, идея детерминированного, механического, фатального, необходимого, чудесного, лучезарного прогресса уничтожена. В этих условиях мы прекрасно понимаем, что существует бурное возвращение в прошлое или прошлые» [16, c. 155; перевод автора].
В этой связи мы сталкиваемся не только с концом будущего, но и с концом самой утопии как исторического понятия по причине конца самой истории. Как показывает Ж. Монтено, автор работы «Возможно ли общество без утопической мысли?» ( Une société sans pensée utopique est-elle concevable ? ), пространственная замкнутость утопии по отношению к внешним влияниям приводит к ее замыканию по отношению к истории и становлению. Утопический нарратив, безусловно, в состоянии рассказать о том, как устроено утопическое общество, но он никогда не предвидит его будущую эволюцию. Следовательно в своей основе он является внеисторическим продуктом [15]. Таким образом, если мы сопряжем эту идею с известной мыслью Ф. Фукуямы о конце истории ввиду достижения человечеством своей высшей точки развития в форме капиталистического общества либеральной демократии (которую некоторые исследователи считают также одной из форм утопии [10]), становится понятной точка зрения сторонников конца утопии.
Так, Г. Маркузе в своей работе [7] указывает на тот факт, что утопия относится к проектам социальных изменений, которые считаются невозможными по причине незрелости социальной ситуации. Однако, согласно его убеждению, в настоящее время проект социального преобразования может считаться неосуществимым только при условии, что он противоречит определенным научно установленным законам, биологическим законам, физическим законам (например, идея вечной молодости или возвращение к Золотому веку) [7, c. 19]. Кроме того, сторонники «конца утопии» делают акцент на современных технологиях как на инструменте, конструирующем будущее. А также они указывают на невозможность появления утопического сознания (изначально являющимся выражением коренных социальных потребностей [5]) в рамках современного постмодернистского общества. Ведь «соединение стабильности и статичности общественной жизни с замкнутостью индивидуумов на самих себя, одиночеством и индивидуализмом, агностицизмом, пессимизмом и нигилизмом приводит к отрицанию утопической направленности сознания» [3, c. 120], которое тем более противоречит стабильности и конечности постиндустриального общества, поскольку несет в себе риски установления тоталитарных режимов.
С другой стороны и в противовес сторонникам конца утопии, Ф. Джеймисон, автор работы «Археология будущего: желание, названное утопией, и другая научная фантастика» ( Archaeologies of the Future: Th e Desire Called Utopia and other Science Fictions) следующим образом диагностирует специфические недуги современного общества, для лечения которых может использоваться утопия: «Наносит вред не присутствие врага, а скорее всеобщая вера в то, что не только эта тенденция [ неолиберализм – А. В. ] необратима, но и что исторические альтернативы капитализму оказались нежизнеспособными и невозможными, и что никакая другая социально-экономическая система немыслима, не говоря уже о практической возможности ее осуществления» [14, c. xii; перевод автора].
Именно в подобном контексте утопия обретает новую силу и предлагает альтернативу, в рамках которой она, если мы вновь обратимся к словам Джеймисона, становится формой, которая «сама по себе является репрезентативной медитацией о радикальном различии, радикальной ина-ковости» [там же]. Согласно его позиции, не существует такой силы, которая могла бы что-то противопоставить подобной форме, обозначающей себя в оппозиции к подавляющей и стандартизирующей власти настоящего; власти, которая превращает каждую попытку, направленную в сторону гетерогенности любой из сфер социальной жизни – от более конкретного политического действия к более абстрактному культурному производству, – в увеличение количества одного и того же гомогенного продукта неолиберализма.
Кроме того в диалектическом изложении Джеймисона можно обнаружить неразрывно сопряженную с утопией мысль о другом , которая также является способом построения точки зрения, с помощью которой можно различать давление и ограничения текущей ситуации, то есть конкретного настоящего. В одном из своих ранних эссе Джеймисон переворачивает общепринятое представление о специфической природе инаковости, построенной на базе утопии как формы противопоставления настоящему: «Самая глубокая тема утопии и источник всего того, что в ней наиболее ярко выражено политически, это именно наша неспособность постичь ее, наша неспособность произвести ее как видение, наша неспособность спроецировать Другого из того, что подобно фейерверку, растворяющемуся в ночном небе, должно снова оставить нас наедине с этой историей» [13, c. 101; перевод автора].
В этом случае оказывается, что утопия – это размышление об ином и одновременно размышление о том, что есть. Именно это противоречие демонстрирует, что каждая утопия стремится представить себе систему, радикально отличную от данной. Тем самым она открывает доступ к системной природе общества, к тому самому, что идеология старается стереть. Специфическая политическая полезность находки Джеймисона состоит при этом в том, что она идет вразрез с фрагментарным зерном современных ей модусов мышления: демонстрируя системную природу общества, она открывает возможность того, что можно назвать мыслью о тотальности настоящего.
Продолжая, таким образом, практическое приложение утопической мысли, следует также указать на тот факт, что бывшие политические утопии – проекты поиска лучшей формы правления и политической организации – сами перестают быть утопическими в современном понимании этого слова. Как подмечает К. Са-йяр, на протяжении всей истории были созданы тысячи утопических общин. Их целью было организовать лучший образ жизни, который в конечном итоге станет образцом для остального общества. Здесь важно подчеркнуть тот факт, что не все воплощения утопических теорий в жизнь были неудачными, утопия жила не только в книгах [18]. Кроме того, другая исследовательница утопии Йона Фридман, говоря о генезисе утопии, разделяет его на три элемента: коллективное недовольство, обнаруживаемое средство, способное положить конец этому недовольству, и коллективное согласие. Согласно Фридман, коллективная неудовлетворенность обычно приходит после открытия средства, которое может положить конец этой неудовлетворенности: мы не удовлетворены, потому что знаем, что могли бы иметь что-то другое вместо того, что имеем. Следовательно, утопия, когда она рождается (то есть когда выполняются указанные выше условия), необходимо прагматична, даже сверх того – в этом случае она является единственным прагматическим решением. Иначе говоря, единственным решением, которое не является «утопическим» [11]. И, таким образом, мы вновь видим, как деутопизированная утопия возвращается к конструированию будущего, в очередной раз сопрягая его с критикой настоящего. Более того, к этой негативной герменевтике, основанной на способности утопии заставить нас смотреть в лицо ограниченности нашего мира, следует добавить тот самый утопический импульс, который скрыт во всем, ориентированном в будущее и имеющем отношение к жизни и культуре.
В этом аспекте даже важно не то, что утопия составляет чертежи будущего или того, как может выглядеть другая система социальной организации. Она политически сильна именно в той мере, в какой она отражает нашу неспособность вообразить что-то за рамками детерминированного единообразия нашего времени. Но тем самым она также производит в самой основе своего проекта то, что отрицает наличествующая система, то есть желание перемен. Именно утопия дает этому желанию «местно обитания и имя», тем самым делая возможным его восприятие. И чтобы в своих ограничениях как последователей протоколов, а не проводников возможностей, общество все еще искало рецепты того, как выглядит утопия, Джеймисон указывает на то, что утопический текст не должен производить синтез того, как утопия может выглядеть в будущем сама по себе, или даже представлять ее, – это дело человеческой истории и коллективной практики. Идея утопии должна лишь произвести потребность в синтезе, открыть пространство, в котором он должен быть представлен [14].
В заключение хочется обратиться к позиции Жаклин Русс, которая добавляет к определению Аристотелем человека как «политического животного» то, что он также является и «утопическим животным» [17]. Именно в этом смысле утопия может быть определена как мысленный эксперимент, пытающийся решить проблему настоящего с помощью силы воображения. Такого рода проверка используется, чтобы попытаться понять практическое через аналогию: утопия создает прецедент для мысленного исследования, в котором она предлагает экспериментальную вариацию по отношению к нашей эмпирической вселенной. Таким образом, согласно позиции Русс, необходимо прекратить апологию реальности как единственно возможного источника рациональности, поскольку «человеку нужна утопия, как ему нужен кислород» [там же]. И утопическое мышление должно иметь свое место в жизнеутверждающих соображениях, потому что сама утопия не так уж утопична. Именно в этом ключе следует рассматривать утопию как инструмент диагностики ограничений настоящего и как видение нереализованного – и, возможно, неосуществимого – будущего. В этом смысле ценность утопии заключается в том, что каждая из этих двух противоположностей определяет другую и оставляет открытой возможность для эффективного изменения, которое невозможно представить в рамках настоящего.
Список литературы Конец истории. Конец утопии. Конец будущего?
- Баталов Э. Я. В мире утопии: Пять диалогов об утопии, утопическом сознании и утопических экспериментах. Москва: Политиздат, 1989. 320 с.
- Желтикова И. В., Гусев Д. В. Ожидание будущего: утопия, эсхатология, танатология. Орел: Издательство ОГУ, 2011. 172 с.
- Захарова К. Н. Социальная утопия современного общества // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия Социальные науки. 2012. №2 (26). С. 119-124.
- Ковтун Н. В. Роман В. Ф. Одоевского «4338 год» и традиции интеллектуальной утопии в России // Известия Томского политехнического университета. 2004. Т. 307. №5. С. 179-183.
- Кярова М. А. Функциональность утопии как феномена социальной жизни // Научный интернет-журнал «Мир Науки». 2014. Выпуск 2.
- Лабрика Ж. Марксизм между наукой и утопией // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2004. No 5. С. 268-293.
- Маркузе Г. Конец утопии /Пер. с англ. Артема Смирнова // ЛОГОС. 2004. № 6 (45). C. 18-23.
- Петрухин А. В., Курочкина Л. Я. Плюрализм трактовок феномена «Утопия» в контексте единой европейской утопической традиции // Вестник Воронежского государственного технического университета. 2009. Т 5. № 11. С. 251-254.
- Уэллс Г. Современная утопия // Завтра: Фантаст. альманах. 1991. Вып. I. С. 120-130.
- Bret B., Didier S. and Dufaux F. Utopias as a tentative horizon for spatial justice [Электронный ресурс] // Justice Spatiale | Spatial Justice. 2012. [вэб-сайт]. URL: http://www.jssj.org/wp-content/uploads/2013/09/ JSSJ5-1-en1.pdf
- Friedman Y. Utopies réalisables. Les Coiffards: Editions de l'éclat, 2015. 240 p.
- Guertin M. La contestation dystopique (étude sur les rapports entre l'utopie, l'idéologie et la dystopie). Trois-Rivières: Presse de la Université de Québec, 2000. 400 p.
- Jameson F. Of Islands and Trenches: Neutralization and the Production of Utopian Discourse // Ideologies of Theory: Essays 1971-1986, vol. 2. 1988. Pp. 75-101.
- Jameson F. Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and other Science Fictions. London: Verso, 2005. 431 p.
- Montenot J. Une société sans pensée utopique est-elle concevable? [Электронный ресурс] // Docplayer. 2018. [Electronic resource]. URL: https://docplayer.fr/210562456-Une-societe-sans-pensee-utopique-est-elle-concevable.html
- Morin E. Réalisme et utopie // Diogène, 2005/1. №209, Pp. 154-164.
- Russ J. Le socialisme utopique français. Paris: Bordas, 1988. 217 p.
- Sayar K. L'utopie est-elle utopique ? Paris: LeS dOiGtS bLeUs, 2013. 23 p.