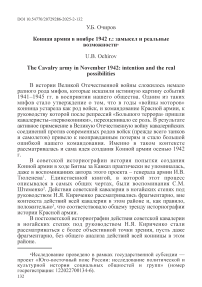Конная армия в ноябре 1942 г.: замысел и реальные возможности
Автор: Очиров У.Б.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Великая Отечественная война: к 80-летию Победы
Статья в выпуске: 2 (84), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье на основе ранее неизвестных документов Центрального архива Министерства обороны рассматривается история проекта создания Конной армии в период Битвы за Кавказ. Опыт рейда 30-й и 110-й Калмыцкой кавдивизий в тыл 1-й танковой армии в сентябре 1942 г. доказал большие перспективы применения крупных масс кавалерии в ногайских степях и привел к проекту создания Конной армии. В ее состав вошли семь кавдивизий (9-я и 10-я гв. Кубанские, 11-я и 12-я гв. Донские, 30-я, 63-я и 110-я Калмыцкая), танковая и мотострелковая бригады, три танковых полка, четыре бронеавтомобильных и мотоциклетных батальона, девять артиллерийских и минометных полков, а также придавалась авиадивизия. Однако в ходе формирования Ставка ВГК отменила свое решение, посчитав, что крупная конная группа окажется уязвимой от огня противника, ударов панцерваффе и люфтваффе. Конную армию разделили на 4-й гв. Кубанский, 5-й гв. Донской кавкорпуса, 110-ю Калмыцкую кавдивизию и ряд отдельных частей. Однако анализ оперативных документов (в том числе трофейных) позволил автору прийти к выводу о том, что у Конной армии были большие перспективы для успеха реализации замысла рейда в тыл 1-й танковой армии вермахта. Этому способствовали оперативные и географо-климатические условия (открытый левый фланг противника, 200-километровый разрыв в линии фронта, степные пространства и течение рек в регионе), ослабление группировок панцерваффе и люфтваффе после переброски ряда соединений на помощь окруженной в Сталинграде армии, а также поражение вермахта под Гизелью. С другой стороны, командармом был назначен Н.Я. Кириченко, отличавшийся нерешительностью и нежеланием действовать в тылу врага. Это доказали его действия в январе 1943 г., когда он возглавил конно-механизированную группировку почти в том же составе, что и планируемая Конная армия. Несмотря на значительное превосходство в силах и благоприятные географические условия, его группа действовала не слишком решительно и даже отставала от действующей рядом пехоты.
Красная армия, кавалерия, Великая Отечественная война, Битва за Кавказ, Конная армия, конно-механизированная группа Н.Я. Кириченко, 4-й гвардейский Кубанский кавалерийский корпус, 5-й гвардейский Донской кавалерийский корпус, 110-я Калмыцкая кавалерийская дивизия
Короткий адрес: https://sciup.org/149148356
IDR: 149148356 | DOI: 10.54770/20729286-2025-2-132
Текст научной статьи Конная армия в ноябре 1942 г.: замысел и реальные возможности
The Cavalry army in November 1942: intention and the real possibilities
В истории Великой Отечественной войны сложилось немало разного рода мифов, которые исказили истинную картину событий 1941–1945 гг. в восприятии нашего общества. Одним из таких мифов стало утверждение о том, что в годы «войны моторов» конница устарела как род войск, и командование Красной армии, к руководству которой после репрессий «Большого террора» пришли кавалеристы-«первоконники», переоценивало ее роль. В результате активное применение в Великую Отечественную войну кавалерийских соединений против современных родов войск (прежде всего танков и самолетов) привело к неоправданным потерям и стало большой ошибкой нашего командования. Именно в таком контексте рассматривалась и сама идея создания Конной армии осенью 1942 г.
В советской историографии история попытки создания Конной армии в ходе Битвы за Кавказ практически не упоминалась, даже в воспоминаниях автора этого проекта – генерала армии И.В. Тюленева1. Единственной книгой, в которой этот процесс описывался в самых общих чертах, были воспоминания С.М. Штеменко2. Действия советской кавалерии в ногайских степях под руководством Н.Я. Кириченко рассматривались фрагментарно, вне контекста действий всей кавалерии в этом районе и, как правило, положительно3, что соответствовало общему тренду историографии истории Красной армии.
В постсоветской историографии действия советской кавалерии в ногайских степях под руководством Н.Я. Кириченко стали рассматриваться с более объективной точки зрения, пусть даже фрагментарно, без общего анализа действий всей конницы в этом районе.
Например, в академической коллективной многотомной монографии «Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки» в параграфах, посвященных Битве за Кавказ (автором которых был А.А. Данилевич), указывалось, что в ходе СевероКавказской наступательной операции конно-механизированная группа (далее – КМГ) Н.Я. Кириченко « действовала крайне нерешительно, а иногда даже отставала от пехоты »4. Критически действия 4-го гв. Кубанского кавалерийского корпуса (далее – кк) при штурме Ачикулака в октябре – декабре 1942 г. оценивает А.В. Карташев5. Очень важным для данного исследования был психологический портрет Н.Я. Кириченко как военачальника, нарисованный в работе А.Ю. Безугольного и Е.Ф. Кринко6.
Большой прорыв в изучении истории создания Конной армии осенью 1942 г. был сделан в трудах А.Ю. Безугольного, который ввел в оборот неизвестные ранее документы, связанные с этим проектом, указал на его автора (И.В. Тюленева), доказал, что противником проекта выступил не только Генштаб, но и командарм Н.Я. Кириченко, раскрыл планы использования Конной армии и причины ее расформирования7. Однако в этих работах не рассматривалась реалистичность этого проекта, исходя из эффективности действий советской кавалерии в войне в целом и в ногайских степях в 1942 г. в частности, а также потенциала вражеской группировки, прежде всего панцерваффе и люфтваффе, являвшихся основными противниками для конницы. Данная статья призвана осветить указанные пробелы.
При оценке действий советской кавалерии в Великой Отечественной войне следует понимать, что ее боевое применение имело ряд особенностей.
Во-первых, кавалерию в конном строю запрещалось бросать не только на танки, но и на артиллерию, пулеметы, укрепленные позиции и т.д. Уже в период Первой мировой и Гражданской войн кавалерия большей частью действовала в пешем строю, используя коней для мобильности – быстрого перемещения на различные участки фронта. В период Интербеллума в советских военных трудах, официальных наставлениях и уставах говорилось, что конница не должна использоваться против укрепленных позиций, и что атаки в конном строю возможны лишь когда система огня противника расстроена. В Боевом уставе 1938 г. было четко сказано, действия в конном строю возможны только при благоприятствующей обстановке: « есть укрытие, слабость или отсутствие огня противника »8.
Во-вторых, танк, как новый вид оружия, действительно привел к созданию нового рода войск и кардинально изменил стратегию и тактику боя. Однако танк сам по себе не являлся чудо-оружием, способным в одиночку решить исход войны или даже отдельного сражения. Искусство применения этого оружия требовало использовать танки в сочетании с мобильными частями других родов войск – моторизованной пехотой и моторизованной артиллерией. При этом моторизация указанных родов войск потребовала создания специальных видов бронетехники: для моторизованной пехоты – бронетранспортеров (далее – БТР) и боевых разведывательных машин, для моторизованной артиллерии – самоходных артиллерийских установок (далее – САУ).
Лучше всего к ведению такой войны подготовилась Германия, которая создала широкую номенклатуру БТР и САУ еще до начала боевых действий. Немецкие САУ, например, включали в себя такие виды оружия, как: штурмовые орудия, орудия на самоходных лафетах, противотанковые САУ, зенитные САУ и др. По данным генерала Вальтера Неринга вермахт в годы Второй мировой войны имел около 230 видов боевых машин: 94 типа танков, 6 типов штурмовых орудий, 10 типов противотанковых САУ и 13 типов самоходных противотанковых орудий, 12 типов зенитных САУ и 1 тип самоходной зенитной установки, 43 типа БТР, 19 типов разведывательных бронемашин, 10 типов бронированных подвозчиков боеприпасов и др.9.
В СССР руководство отдавало приоритет разработке танков и колесных бронеавтомобилей. В итоге первые советские САУ серийно стали выпускаться только осенью 1942 г., а первые советские БТР – спустя много лет после войны. Частично дефицит БТР удалось восполнить за счет поставок ленд-лиза, но большинство советской мотопехоты перемещалась на грузовиках, которые заметно уступали бронированным гусеничным машинам по проходимости и не могли применяться на поле боя. Если же сравнить боевые возможности мотопехоты на грузовиках и кавалерии, то последняя уступит только в одном параметре – скорости передвижения по шоссе, которых в период Великой Отечественной войны было немного. В условиях бездорожья, особенно в период распутицы или снега, кавалерия имела явное преимущество. Ее проще было укрывать на местности от ударов авиации, она была менее огнеопасной, чем автомашины, не требовала дефицитных горюче-смазочных материалов, а довольствовалась фуражом, который проще было найти, наконец, могла использоваться в качестве пищи для личного состава.
В-третьих, военная теория (причем не только советская) требовала применять стратегическую конницу во взаимодействии с механизированными соединениями. При этом указанные теории не являлись схоластическими изысками, а активно внедрялись в жизнь. Действия КМГ отрабатывались на всех крупных маневрах Красной армии в 1930-х гг. Кавалерийские соединения, в том числе в соста- ве КМГ вступили в бой с первых дней Великой Отечественной войны. Конечно, оптимальное сочетание конницы с другими родами войск (особенно с бронетехникой) удалось подобрать не сразу. Конно-механизированные, конно-танковые, конно-стрелковые группы использовались в различных комбинациях в разные исторические периоды на разных участках фронта. Кроме того, в руководстве Красной армии имелось немало противников кавалерии, среди которых был и зам. наркома обороны, начальник Главного управления формирования и укомплектованиям Е.А. Щаденко (по иронии судьбы бывший «первоконник»). В первые годы войны происходило своеобразное перетягивание каната: если в 1941 г. кавалерийские дивизии формировались буквально волнами (мы можем насчитать шесть таких «волн»), то в 1942 – начале 1943 гг. их расформировывали (большей частью тоже волнами), причем ликвидировались не только уничтоженные или понесшие значительные потери соединения, но и полностью укомплектованные, выступившие на фронт или уже сражающиеся с врагом.
С середины 1943 г. практика расформирования кавдивизий прекратилась. Оставшиеся на фронте 21 кавалерийская дивизия (далее – кд), объединенные в 7 кавалерийских корпусов, успешно противостояли врагу, в том числе в ходе рейдов в составе КМГ, в которых они действовали вместе с танковыми корпусами (далее – тк) и механизированными корпусами (далее – мк). В сентябре 1943 г. на фронте действовало пять КМГ: Н.С. Осликовского (3-й гв. кк, 2-й гв. тк), С.В. Соколова (6-й гв. кк, 5-й мк), М.И. Казакова (2-й гв. кк, 1-й тк), «Буря» Н.Я. Кириченко (4-й гв. кк, 4-й гв. мк) и «Ураган» А.Г. Селиванова (5-й гв. кк, 20-й тк). При этом все командиры КМГ являлись опытными кавалерийскими военачальниками, за исключением М.И. Казакова, который после окончания Академии Генштаба в 1937 г. перешел из конницы на штабную работу. Летом 1944 г. одновременно действовало уже 6 КМГ (хотя на фронте было всего 7 кавкорпу-сов), причем всеми руководили кавалерийские военачальники: В.В. Крюков (2-й гв. кк, 11-й тк), И.А. Плиев (4-й гв. кк, 1-й мк, 9-й тк), Н.С. Осликовский (3-й гв. кк, 3-й гв. мк), В.К. Баранов (1-й гв. кк, 25-й тк), С.В. Соколов (6-й гв. кк, 31-й тк), С. И. Горшков (5-й гв. кк, 23-й тк).
В ноябре 1944 г. КМГ Плиева стала действовать как постоянная. В ее состав входили: 3 механизированные и 1 танковая бригада, 18 кавалерийских, 6 танковых, 4 самоходно-артиллерийских (в том числе 1 тяжелый), 6 артиллерийско-минометных, 3 истребительно-противотанковых, 3 зенитно-артиллерийских, 1 минометный полк, 2 полка и 1 дивизион РСЗО, 2 истребительно-противотанковых, 2 минометных дивизиона, мотоциклетный батальон (без учета частей усиления)10. Таким образом, КМГ представляли собой сильные мобильные группировки со значительной огневой мощью, поэтому при грамотном руководстве кавалерия могла достичь больших успехов даже в борьбе с механизированными армадами панцерваф-фе.
Неслучаен тот факт, что все 7 кавкорпусов и 17 кавдивизий из 21, сражавшихся на фронте к сентябрю 1943 г., являлись гвардейскими. В период с осени 1943 г. до весны 1945 г., который для советской кавалерии стал пиком успехов, звания гвардейских ее соединениям больше не присваивались, но, несмотря на это, кавалерия как род войск имела наивысший процент гвардейских соединений (81 %), уступая лишь воздушно-десантным войскам и частям РСЗО, которые знак «гвардия» получали, даже не вступив в бой.
Таким образом, кавалерию в период Великой Отечественной войны следует воспринимать как ездящую пехоту и эффективный аналог мотопехоты на грузовиках. В руках умелых полководцев она могла стать блестящим инструментом для глубоких операций. Именно в таком контексте и следует рассматривать проект создания конной армии осенью 1942 г.
* * *
Автором идеи формирования конной армии выступил командующий Закавказским фронт генерал армии И.В. Тюленев (бывший комбриг 1-й Конной армии) п. Практическая реализация данной идеи легла на плечи командующего Северной группы войск этого же фронта (далее – СГВ) генерал-лейтенанта И.И. Масленникова (бывшего комбрига 2-й Конной армии). Следует заметить, что взаимоотношения этих двух военачальников нельзя отнести к доверительным. Масленников во время Интербеллума перешел на службу в войска ОГПУ–НКВД и сделал блестящую карьеру в новой сфере. При Л.П. Берии он стал зам. наркома НКВД по войскам, причем эту должность он занимал до 1943 г., хотя находился на фронте. Покровительство Берии и высокий пост в другом наркомате позволяли Масленникову чувствовать себя уверенно и независимо даже с вышестоящими военачальниками.
Тюленев, наоборот, находился в опале после неудач на Южном фронте. Даже сохранением поста командующего Закавказским фронтом он был обязан Берии, который в августе – сентябре 1942 г. прибыл на Кавказ как чрезвычайный эмиссар Сталина. Когда войска Северо-Кавказского фронта, которым командовал Буденный, отошли на позиции Закавказского фронта, которым командовал Тюленев, возникла необходимость их объединения. Сталин в перегово- рах с Берией 1 сентября 1942 г. во время обсуждения этого вопроса предложил назначить на должность объединенным фронтом маршала С.М. Буденного. Однако Берия категорически выступил против этой кандидатуры: «в связи с его отступлением, авторитет тов. Буденного на Кавказе значительно пал, не говоря уже о том, что вследствие своей малограмотности он безусловно провалит дело» и рекомендовал на эту должность Тюленева12. Понимая, что военачальнику не хватает полководческих дарований, Берия предложил назначить его первым заместителем К.А. Мерецкова, хотя отлично знал о том, что тот на допросах летом 1941 г. признал себя «врагом народа» и «иностранным шпионом». Это ясно показывает, как на самом деле нарком НКВД оценивал подобного рода признания.
В результате здесь сложилась несколько странная ситуация. Масленников не всегда считал нужным информировать о происходящем на его участке штаб Закавказского фронта, и последнему приходилось окольными путями добывать необходимую информацию. В середине сентября 1942 г. Масленников, пользуясь своей близостью к Берии, даже запланировал наступательную операцию, не поставив в известность Тюленева. Когда командующий фронтом узнал об этом, то через Генштаб добился отмены этого решения. В результате войска несколько дней ходили взад-вперед, приводя в недоумение противника. Несмотря на эти разногласия, оба бывших комбрига конных армий на идею применения крупных масс кавалерии в ногайских степях смотрели одинаково положительно.
В сентябре 1942 г., во время Моздокско-Малгобекской оборонительной операции, 1-я танковая армия Э. фон Клейста создала плацдарм на южном берегу Терека и начала прорываться в Алхан-Чуртскую долину, нацеливаясь на грозненскую нефть. В это время у Масленникова было всего две кавалерийские дивизии, охранявшие стратегическую железную дорогу Кизляр – Астрахань: 30-я Краснознаменная кд (ком. – полковник В.С. Головской) и 110-я Калмыцкая кд (ком. – полковник В.А. Хомутников). Это были соединения двухполкового состава, ослабленные после долгого отступления. Их общая численность составляла примерно 2,8 тыс. чел. (почти в 3,5 раза меньше штатной). Однако Масленников объединил обе кавдивизии в корпус и бросил его в рейд через ногайские степи в тыл 1-й танковой армии. Благодаря более чем 200-километровму разрыву между группами армий «А» и «Б», корпус, который вскоре возглавил Головской, без труда вышел на коммуникации 1-й танковой армии в районе Ага-Батыра и Эдиссии. В этих условиях Клейст был вынужден перебросить часть сил панцерваффе обратно на северный берег Терека и запросил у Гитлера разрешения ввести в бой «Особый корпус «Ф», который планировалось использовать на Среднем Востоке.
Фюрер сначала не соглашался, пытаясь придержать отборное соединение для боев в Иране или Ираке, но 21 сентября все же разрешил его ввод в ногайских степях. 3 октября «корпус «Ф» был включен в состав группы армий «А», а 6 октября Гитлер приказал использовать его для перерезания стратегической железной дороги Кизляр – Астрахань. 15 октября «корпус «Ф» начал переброску в район Буденновска13.
По итогам рейда И.И. Масленников сообщил И.В. Тюленеву: «Практика использования (даже слабых кав[алерийских] полков) из отряда Головского в соответствии Вашего шифрприказа заставила противника разбросать силы на широком фронте Ачикулак, Нов[ый] Сунженский, Ага-Батыр и даже по северному берегу канала Правобережный, поспешно возводить опорные пункты в селениях и на узлах дорог… Учитывая эту обстановку, считаю целесообразным
4 гв. кк использовать как рейдирующую конницу для действия на первом этапе в районе Соломенское, Привольный, Советская, в последующем – распространяясь на Моздок »14.
Успех применения кавалерии в ногайских степях в значительной мере сподвиг командование Закавказского фронта к тому, чтобы перебросить в состав СГВ из отрогов Западного Кавказа 4-й гв. кк под командованием Н.Я. Кириченко. 19 сентября началась переброска управления 4-го гв. кк и двух Кубанских казачьих дивизий (9-й и 10-й гв.), которые прибыли в ногайские степи в конце сентября. Масленников попытался повторить успех сентябрьского рейда. В новый рейд под управлением 4-го гв. кк были направлены 9-я и 10я гв. Кубанские, 30-я Краснознаменная кд. 110-я кд передала свой личный состав в 30-ю кд и была выведена на доформирование.
Однако наступление Кириченко 14–17 октября успеха не имело. Кавалерийские соединения, вместо того чтобы проскользнуть между опорными пунктами и уйти в рейд на коммуникации противника, стали штурмовать опорные пункты Андрей-Курган (под Ачикулаком), Владимировку и Урожайное (на р. Кума). Немцы подтянули «Особый корпус «Ф» и два гренадерских полка из 444-й и 454-й охранных дивизий и выбили кавалеристов из занятых сел. Таким образом, в течение месяца корпус генерал-лейтенанта Кириченко из-за своих нерешительных действий так и не выполнил основной задачи – рейда по тылам и коммуникациям моздокской группировки противника.
* * *
Во второй половине октября Ставка ВГК задумала новое наступление силами СГВ, в том числе и конной группировкой через ногайские степи. Соответствующий план был разработан штабом
Закавказского фронта и направлен в Ставку 25 октября и утвержден с существенными дополнениями вечером того же дня15. Было принято решение усилить кавалерию за счет переброски новых соединений. С перевалов Главного Кавказского хребта была снята 63-я кд, сформированная в Средней Азии, еще не участвовавшая в крупных сражениях и не понесшая значительных потерь.
-
25 октября Клейст опередил Тюленева и начал новое сражение, которое в отечественной историографии известно, как Нальчикско-Орджоникидзевская операция. Теперь удар к грозненской нефти наносился через Нальчик, с запада. Коммуникации наступательной группировки пролегали западнее и были не так доступны для советской кавалерии, как во время Моздокско-Малгобекской операции.
После этого Ставка ВГК выпустила директиву № 170680, в которой временно отложила формирование Конной армии и приказала Кириченко создать кавгруппу из четырех кавдивизий (9й и 10-й гв., 30-й и 63-й) и нанести удар в тыл моздокской группировке, содействуя наступлению СГВ. « Формирование Конной армии, которое Ставкой считается целесообразным, отменить до окончания операции, при этом иметь в виду, что Кириченко к 10–15 ноября для Конной армии получит средства усиления: два полка истребительной и два полка штурмовой авиации, три бронебатальона, два бронетранспортных батальона, три мотоциклетных батальона и два-три танковых полка »16.
-
25 октября 4-й гв. кк вновь атаковал Ачикулак и Урожайное, но успеха не добился.
30 октября Масленников приказом № 0170/оп от 25 октября конкретно указал Кириченко направление удара для прорыва в тыл 1-й танковой армии вермахта: « С утра 30 октября, блокируя и обходя опорные пункты противника, развивать удар в направлении Соломенское, Степное, не допустить выдвижения резервов противника с рубежа р. Кума на Моздок, и во взаимодействии с 63 кд (сосредоточенной в районе Майорский, Капустин) и 10 гв. ск, наступающими вдоль северного берега р. Терек, – разгромить Моздокскую группировку противника. В дальнейшем иметь в виду наступать на Прохладный » 17. Однако Кириченко в ночь на 1 ноября вновь атаковал Ачикулак, гарнизон которого незадолго до этого усилили подразделения 360-го и 375-го гренадерских полков из 444-й и 454-й охранных дивизий соответственно. 1–2 ноября соединения 4-й гв. кк, действовавшие рассогласованно, безуспешно штурмовали Ачикулак18. За два боев корпус Кириченко потерял 272 чел. убитыми и пропавшими без вести, 404 – ранеными19.
Масленников, вспоминая в 1948 г. об этих боях, с явной досадой писал: «Несмотря на то, что приказом требовалось обходить опорные пункты и решительно действовать в направлении Степное, Соломенское, командир корпуса решает в ночь с 31 октября на 1 ноября атаковать гарнизон в Ачикулаке… Все попытки захватить Ачикулак не дали положительного результата. Корпус, потеряв в этих боях убитыми и ранеными до 800 казаков, к 3 ноября отошел… Сравнительно длительная лобовая атака укрепленного населенного пункта не отвечала ни задаче, поставленной корпусу, ни методу боевых действий для конницы. Вместо решительных набегов, преимущественно ночных, по тылам, корпус, атакуя оборону, по существу, лишился маневренности и превратился в обычную пехоту… »20.
Мало того, 3 ноября 4-й гв. кк внезапно отступил на восток к Кунь-батору. Масленников в своих записках 1948 г. этот шаг оценил так: « Военному совету группы войск было известно, что генерал Кириченко поддался паническим слухам об оставлении, якобы, нашими войсками Владикавказа. Выдвигаемые объяснения причин отхода корпуса, безусловно, не могли служить оправданием. Корпус без воздействия противника отошел на сотню киломе-тров »21. Того же мнения придерживался и командующий фронтом И.В. Тюленев: « Поставленная Вам задача набеговых операций во фланг и тыл противника наилучшим образом обеспечивает прикрытие железной дороги Астрахань – Кизляр на участке Улан-Хол, Кизляр и совершенно не совместима с Вашим отходом на восток. Немедленно примите меры к установлению соприкосновения с противником своими передовыми частями и обеспечению за собой ранее занимаемой полосы на линии Камыш-Бурун, Тукуй-Мек-теб, Терен-Кую и активизируйте набеговые действия разведгрупп с захватом пленных и нарушением управления противника »22. Однако Н.Я. Кириченко, ссылаясь на усталость конского состава и отсутствие зимнего обмундирования, этот приказ сразу выполнять не стал. Как справедливо отметил А.В. Карташев, такой ответ командира корпуса командующему фронта мог иметь самые печальные последствия, но Кириченко « был на хорошем счету у С.М. Буденного и самого И.В. Сталина » 23.
С другой стороны, атаки 4-го гв. кк нанесли потери «корпусу Ф» и сковали его действия. После боев за Ачикулак новый начальник Генштаба сухопутных войск генерал пехоты К. Цайцлер рекомендовал отложить планы по перерезанию стратегической коммуникации, так как « наступление с целью перерезать железнодорожную линию Кизляр – Астрахань в настоящее время не может быть проведено »24. Он разрешил использовать «корпус Ф» только в рамках предстоящих крупных операций на юго-восточном направлении – в сторону Грозного.
Несмотря на значительные потери личного состава в боях, за счет постоянного пополнения кавалерия СГВ на 1 ноября насчитывала: управление 4-го гв. кк и части усиления – 2 377 чел., 9-я гв. кд
– 2 587 чел., 10-я гв. кд – 2 899 чел., 30-я кд – 2 886 (всего в 4-м гв. кк – 10 749 чел.), 63-я кд – 4 128 чел., 110-я кд – 2 116 чел. 25. Таким образом, кавалерия СГВ составляла 17-тысячную боеспособную группировку. Кроме того, был запланирован вывод из Западной Грузии и переброска 11-й и 12-й гв. Донских казачьих кд. С их прибытием во второй декаде ноября количество кавдивизий в ногайских степях увеличилось до семи (не считая еще двух соединений в Иране). Тюленев вполне логично вновь поставил перед Ставкой ВГК вопрос о формировании Конной армии либо двух отдельных кавалерийских корпусов для проведения рейдовой операции в тылу 1-й танковой армии Клейста.
Этот вопрос вызвал немало дискуссий, в первую очередь, в Генштабе. Как вспоминал С.М. Штеменко, одни выступали против: « конница изжила себя… она уже не способна к лихим атакам и глубоким рейдам из-за уязвимости от огня автоматического оружия, наличия у противника большого количества танков, трудностей снабжения фуражом и по многим другим причинам », считали необходимым усилить ее пехотой, артиллерией и танками, из-за чего она теряла свой главный козырь – мобильность. Другие считали, что конармия должна использоваться как увеличенная КМГ при поддержке авиации. Третьи голосовали за использование кавалерии « в чистом виде » 26. Победу сначала одержали сторонники второго мнения. Для формируемой Конной армии стали изыскивать танковые, артиллерийские и авиационные части.
Командармом изначально планировался самый старший из кавалерийских начальников на этом театре – « гвардии генерал-лейтенант казачьих войск » (как он сам себя называл) Н.Я. Кириченко. Причем это происходило в период, когда командармами были большей частью генерал-майоры, а фронтами командовали генерал-лейтенанты (М.А. Рейтер, Д.Т. Козлов, Р.Я. Малиновский, В.Н. Гордов, К.К. Рокоссовский, И.И. Масленников и др.). Кириченко отличался умением красиво подать свои успехи, умел, как говорится, «пустить пыль в глаза», пользовался поддержкой у начальства, включая Буденного и Сталина, считался авторитетом в применении казачьих войск и «казакоманом», не являясь казаком по происхождению27.
Осознание его реального уровня как полководца у московского начальства наступило лишь через год, когда удалось сравнить операции КМГ Н.Я. Кириченко и А.Г. Селиванова, действовавших практически в одинаковых условиях, но показавших совершенно разные результаты. Представитель Ставки ВГК маршал А.М. Василевский, анализируя проведенные операции, пришел к выводу, что от Кириченко «требовались более решительные действия, умения и навыки оперативного руководства войсками»28. Командующий кавалерией маршал С.М. Буденный лично выехал для проверки корпуса, в результате которой Кириченко отстранили от фронтовой работы и перевели на тыловую должность, на которой он и закончил войну. Этому способствовало еще и то, что корпус действовал на разных фронтах, и их командующие лишь спустя какое-то время могли оценить его реальные компетенции военачальника, но не успевали принять необходимых мер. Благодаря этому «гвардии генерал-лейтенант казачьих войск» еще продолжал пользоваться авторитетом, и Сталин даже лично запросил его мнение по поводу формирования Конной армии29.
6 ноября 10-й и 11-й гв. стрелковые корпуса (далее – ск) прорвали фронт 1-й танковой армии в районе Гизели и р. Фиагдон и начали окружать группировку, рвущуюся к Орджоникидзе. В этих условиях Масленников решил активизировать действия кавалерии. 8 ноября на фронт стала выдвигаться доукомплектованная 110-я Калмыцкая кд, а 9 ноября вышла директива № 0232/оп, согласно которой 63-й кд вместе с 9-м ск следовало « вскрыть перегруппировку противника [в] районе Ищерская », 110-й кд – не допустить перехода противника в наступление на Гудермес или Кизляр « для чего иметь… один полк в Терекли-Мектеб и один полк в районе Селиванкин ». 4-му гв. кк надлежало « кавалерийскими набегами [в] общем направлении Камыш-Бурун, Дьяченковский, Бабанино, Копань, Архангельское и Ачикулак, Степное – разрушать тыловые коммуникации противника, уничтожая его средства связи, штабы и транспорта » 30.
Однако в ночь с 10 на 11 ноября корпус Кириченко, начавший было выдвижение на запад, вновь отступил без воздействия противника на десятки километров. Об этом разгневанный Масленников сообщил Тюленеву вечером 11 ноября боевым донесением № 012/ оп штаба СГВ: « 4 гв. кк самостоятельно, вопреки отданным ему неоднократно указаниям – активно действовать по флангам и тылам противника, начал отход на восток и к утру 11.11 сосредоточился: 9 [гв.] кд – Арт. к. (12 км юго-восточнее Мутный Артезиан); 10 [гв.] кд – Исмаил (Казим-Бет), Нариман-Аул (Махмут), Терекли-Мектеб; 30 кд – в движении для сосредоточения в районе Аул-Чубутла. Штакор – Тарумовка.
...Командиру 4 гв. кк приказываю приостановить перегруппировку на восток и восстановить положение, выйдя частями корпуса в районы, занимаемые ими 8.11.42 г. По вопросу о самовольном отходе назначаю расследование» 31. Это расследование (если оно реально и проводилось) на положение Кириченко никак не повлияло.
* * *
С воздуха армию должна была прикрывать 216-я истребительная авиадивизия (будущая 9-я гв. «покрышкинская»). Впрочем, до кубанской феерии оставалось еще полгода, и в состав соединения входили совсем другие части. По планам в 216-ю истребительную дивизию (которая лишь 13 декабря была переименована в смешанную, хотя штурмовые и бомбардировочный авиаполки числились в ее составе еще с лета 1942 г.) должны были входить два полка штурмовиков и два полка истребителей Як-7. Реальность, однако, оказалась несколько иной. 12 ноября в это соединение входили 765-й штурмовой (на Ил-2), 288-й бомбардировочный (на Су-2), 84-й «А» истребительный (на И-153, с 17 ноября пополнен И-16), 88-й истребительный (на И-16) авиационные полки34.
При этом последние три полка находились на фронте уже несколько месяцев и понесли заметные потери (два полка в ноябре и декабре 1942 г. будут выведены в тыл). Взамен из резерва Закавказского фронта 1 декабря поступил 66-й истребительный авиаполк (на Як-1)35. 765-й авиаполк, напротив, был «свежим», только что прибывшим на фронт после переучивания. Летчики этого полка, среди которых были будущие Герои Советского Союза Г.М. Паршин и С.Л. Краснопёров, имели большой боевой опыт. Кроме того, 4-му гв. кк оперативно был подчинен 40-й истребительный авиаполк (на И-16). Конечно, истребители И-153 «Чайка», И-16 и ближние бомбардировщики Су-2 к концу 1942 г. безнадежно устарели, но при этом были достаточно эффективны, как штурмовики. По ряду параметров они, по меньшей мере, не уступали основному штурмовику Красной армии – Ил-2.
Таким образом, что Ставка учла все возможные недостатки Конной армии и усилила кавалерийское объединение танками, мотопехотой (в том числе на зарубежных БТР), противотанковой и зенитной артиллерией, авиацией.
Конной армии ставилась задача осуществить рейд в район Александровской и Георгиевска, после чего она должна была занять круговую оборону, при этом частью сил выдвинуться навстречу 9-й и 44-й армий, наступавшим с юго-востока36.
К сожалению, ряд военачальников выступили против проекта конной армии, считая ее бесперспективной, хотя именно в тех условиях она могла иметь серьезный эффект. Генштаб также дал отрицательное заключение, « полагая, что эта громоздкая организация будет чрезвычайно уязвима с земли и с воздуха » 37. Против этой идеи выступил и сам Н.Я. Кириченко, который предлагал сохранить 4-й гв. кк в прежнем составе (из четырех казачьих дивизий), а остальные три кавдивизии (30-ю, 63-ю и 110-ю Калмыцкую) предлагал обратить на доукомплектование гвардейских соединений38.
В итоге Ставка ВГК 19 ноября издала директиву № 170692, согласно которой формирование Конной армии отменялось, а ее кавдивизии передавались в состав 4-го гв. Кубанского кк (9-я и 10-я гв. Кубанские, 30-я Краснознаменная кд) и 5-го гв. Донского кк (11-я и 12-я гв. Донские, 63-я кд). 110-я Калмыцкая кд осталась отдельной. 4-й гв. кк получил официальное наименование Кубанского казачьего, а вновь формируемый 5-й гв. – Донского казачьего39. Средства усиления были разделены между войсками СГВ, например, мотострелковая бригада была обращена на доукомплектование 10-го и 11-го гвардейских ск. Обеим кавалерийским корпусам были поставлены раздельные задачи. При этом 5-му гв. кк пришлось в процессе наступления заново формировать управление и тылы40.
Оценивая весь этот проект с позиции исторического послезна-ния, нельзя не признать, что он имел большие перспективы. Сложившиеся условия, как оперативные, так и географические вполне позволяли успешное применение конармии в конце ноября – декабре 1942 г.
Открытый левый фланг 1-й танковой армии, разрыв между группами армий «А» и «Б» шириной более 200 километров, широкие пространства ногайских степей давали хорошую возможность для прорыва крупной конно-механизированной группировки в тыл врага и даже окружения 1-й танковой армии. В тылу 1-й танковой армии протекало несколько рек (Баксан, Малка, Кура, Кума, Кубань и др.), на левом берегу которых можно было создать сильные оборонительные позиции. Форсирование нескольких горных рек в зимний период под огнем наших кавалеристов для отступающих немцев могло стать нерешаемой проблемой.
Конечно, панцерваффе и люфтваффе представляли серьезную угрозу для нашей кавалерии. Однако после 23 ноября, когда войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов сомкнули кольцо окружения вокруг 6-й армии Паулюса, основные усилия противника были сосредоточены на ее деблокировании. Для этого вермахт стал демонтировать свои ударные группировки на других участках фронта (на Кавказе, на Жиздре, с Ржевского выступа), направлять свежие соединения из Европы. Одной из первых в состав срочно формируемой группы армий «Дон» убыла 23-я танковая дивизия (далее – тд) с управлением 57-го тк. В конце ноября в 1-й танковой армии оставалось всего 154 исправных танка, в том числе: в 13-й тд – 33, в 3-й тд – 92, в моторизованной дивизии (далее – мд) СС «Викинг» – 29 боеспособных танков. В декабре убыла мд СС «Викинг». К концу декабря в составе 1-й танковой армии осталось пять пехотных и две танковые дивизии, имевших всего 94 (по другим данным – 53) исправных танка41. А ведь в составе Конной армии планировалось иметь 178 танков, 94 бронеавтомобиля, 129 БТР, не считая пушек, минометов и нескольких сотен противотанковых ружей.
Наибольшую угрозу для конной армии представляло люфтваффе, однако после окружения 6-й армии Ф. Паулюса почти все силы 4-го воздушного флота были брошены на сталинградское направление. В интересах группы армий «А» от Терека до Черного моря в этот момент действовала одна эскадра – 52-я истребительная (вооруженная истребителями Bf.109), ударные возможности которой были ограничены. Конечно, вопрос о возможности прикрытия конармии силами только 216-й авиадивизии и своей ПВО следует при- знать дискуссионным, но нельзя забывать, что в декабре количество летных дней сильно ограничено.
Поэтому остается только сожалеть, что генштабисты и фронтовые генералы не смогли учесть все эти факторы и реализовать этот весьма перспективный проект.
С другой стороны, нельзя не признать, что неудачный подбор командарма, скорее всего, обрек бы рейд Конной армию на неудачу. Это видно по его действиям во главе КМГ, сформированной 7 января 1943 г. В состав этой группы вошли 4-й и 5-й гв. кк, 110-я Калмыцкая кд, танковая группа Г.П. Лобанова (2, 15, 63-я танковые бригады, 225-й танковый полк, 48-й бронебатальон и три полка артиллерии), то есть почти тот же состав, в котором планировалась Конная армия. Однако эта КМГ из-за нерешительных действий командира вместо ударов в тыл отходящего противника продолжала наступать на правом фланге 44-й армии и даже стала отставать от пехоты, поэтому не смогла добиться поставленной цели42.