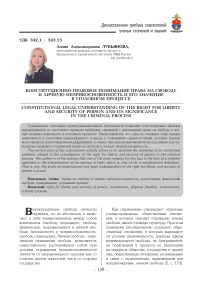Конституционно-правовое понимание права на свободу и личную неприкосновенность и его значение в уголовном процессе
Автор: Лукьянова Алина Александровна
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Дискуссионная трибуна соискателей ученых степеней и званий
Статья в выпуске: 2 (39), 2020 года.
Бесплатный доступ
Современное состояние правоприменительной деятельности позволяет констатировать наличие неразрешенной до настоящего времени проблемы, связанной с реализацией права на свободу и личную неприкосновенность в уголовном процессе. Представляется, что одна из основных тому причин заключается в отсутствии единообразного подхода к толкованию сущности права, которое прежде всего является конституционной дефиницией, в связи с чем актуальным является исследование конституционно-правового понимания права на свободу и личную неприкосновенность.
Право на свободу и личную неприкосновенность, конституция, физическая свобода, принуждение, уголовный процесс
Короткий адрес: https://sciup.org/140247132
IDR: 140247132 | УДК: 342.1
Текст научной статьи Конституционно-правовое понимание права на свободу и личную неприкосновенность и его значение в уголовном процессе
В юриспруденции свобода личности первична, но не абсолютна, и включает в себя взаимосвязанные между собой компоненты (свободу моральную, свободу физическую, выражающуюся в личной свободе, безопасности и неприкосновенности, свободу социальную). Личная свобода – юридически признанная свобода, возможность самостоятельно распоряжаться собой при условии ограждения (неприкосновенности) личности от неправомерного насилия как со стороны других личностей, так и со стороны государства.
Как справедливо утверждают отдельные ученые-правоведы, общественные отношения, в которых находит отражение личная свобода, имеют сложную структуру. При этом правовому регулированию подлежат: общественные отношения, в которых выражаются условия правомерности, границы сферы индивидуальной свободы, не безграничной, не посягающей в процессе ее реализации на интересы общества, государства и других лиц; общественные отношения, возникающие в связи с ограничением, правомерным или неправомерным, личной свободы [2, с. 173].
Юридическим выражением свободы личности являются ее права и свободы, провозглашенные и гарантированные государством. Право устанавливает границы «физического» самоопределения личности, ее индивидуальной автономии.
Место субъекта правового общения в правоотношениях, в процессе реализации конкретного права определяет его правовой статус (положение, состояние). Согласно теории правового положения Н.В. Витрука, «ядро, основу правового положения составляет система юридических прав, свобод, обязанностей и законных интересов, то есть правовой статус личности» [3, с. 28]. Автор синоними-зирует термины «правовой статус» и «правовое положение». Подразделяя правовые статусы на общеправовой (конституционный), отраслевой и конкретный (индивидуальный), В.М. Корнуков утверждает, что вычленение из правового статуса личности правового положения как реализованной его части неоправданно. Правовой статус включает в себя комплекс правовых возможностей, является показателем свободы личности в обществе и ее фактического положения [5, с. 12]. Иного мнения придерживается В.А. Патюлин, выделяя стадии осуществления отдельного субъективного права (право в стадии правового статуса, право в стадии правового модуса, право в стадии конкретного правоотношения) и утверждая о необходимости различать правовой статус, правовой модус и правовое положение, так как правовое положение конкретного лица шире правового статуса, категория эта достаточно динамичная, а содержание ее быстро меняется [8, с. 198-199, 228].
Права, в которых выражена физическая свобода личности, существуют в системе правового статуса личности, в частности специального отраслевого процессуального статуса, и предполагают урегулированные законом пределы возможного поведения, а именно: свободу выбора варианта поведения и непосредственного управления своими действиями. Буквально это означает перспективную, обращенную в будущее правовую возможность, содержание (наполнение) которой будет зависеть от вида правового статуса личности. Например, лицо, наделенное общеправовым (конституционным) статусом, и лицо, чей статус интерферирован процессуальным статусом подозреваемого, по всей видимости, будут обладать различными возможностями пользования своей физической свободой, потому как признание человека уголовно преследуемым предполагает его нахождение в процессуальной доступности, потенциальную возможность применения ограничительных мер.
В настоящее время право каждого на свободу и личную неприкосновенность, регламентированное ст. 22 Конституции РФ, находит отражение и в нормах отраслевого уголовно-процессуального законодательства. Уголовно-процессуальный закон включает неприкосновенность личности в число принципов, однако предусматривает возможность внесудебного ограничения указанного права в связи с осуществлением уголовного преследования в регламентированной процессуальной форме, например в форме задержания или заключения под стражу, то есть мер принуждения, связанных с изоляцией от общества.
Равнозначны ли по своему содержанию понятия «право личности на свободу и личную неприкосновенность» в конституционном праве и отраслевом уголовно-процессуальном? Думается, что их определения должны быть аутентичны и основываться на праве, гарантированном Основным законом государства. Поэтому, чтобы выяснить доподлинную сущность (правовые возможности) указанного права личности применительно к уголовному судопроизводству, необходимо проанализировать, что понимает под этим термином законодатель на конституционном уровне.
Категории «личная свобода» и «личные права» впервые нашли отражение в «Сталинской конституции» (Конституции СССР 1936 года). Однако еще Основные законы Российской империи, утвержденные в 1906 году, являющиеся первой российской конституцией, в своих нормах закрепили право каждого российского поданного на защиту, то есть неприкосновенность, от безосновательного ограничения свободы путем заключения под стражу (ст. 31 указанного закона гласила: «Никто не может быть задержан под стражею иначе, как в случаях, законом определенных»).
Свободы даровались в Манифесте 17 октября впервые, а неприкосновенность личности получила в нем особое подтверждение, что выражалось в словах «действительная неприкосновенность личности». Это объясняется тем, что неприкосновенность личности формально уже существовала. Еще в Судебные Уставы Александра II 1864 года были включены правила, которые вели к установлению неприкосновенности личности [14, с. 157]. Нормы, содержащиеся в Общих положениях Устава уголовного судопроизводства, устанавливали требования к процессуальной форме ограничения права на неприкосновенность личности, подлежащей судебному преследованию за преступление или проступок1.
Конституция РСФСР 1918 года провозгласила Российскую Республику свободным социалистическим обществом, Конституция СССР 1924 года признала существование национальной свободы в лагере социализма. В 1936 году СССР гарантировал своим гражданам обеспечение неприкосновенности личности (ст. 127 Основного закона гласила: «Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по постановлению суда и с санкции прокурора»). По существу, Основной закон закрепил институт правового статуса личности [11, с. 161].
Нормы Конституции СССР 1977 года повысили ценность лично-правовой сущности прав и обязанностей отдельного гражданина. Статья, регламентировавшая гарантию неприкосновенности личности, получила редакционные правки. Согласно ст. 54 Основного закона лицо могло быть подвергнуто аресту не иначе как на основании судебного решения (в то время как предыдущая норма содержала словосочетание «по постановлению суда»).
Конституция РФ провозглашает право каждого на свободу и личную неприкосно- венность, предусматривая возможность внесудебного задержания на срок до 48 часов. Учитывая, что, устанавливая права и обязанности личности, государство определяет границы должного поведения этой личности в обществе, категория «право на свободу и личную неприкосновенность» наполнена содержанием, отличным в целом от понимания свободы личности и права на нее. Объясняется это тем, что нормы Конституции РФ, содержащиеся в главе 2, регламентируют иные права и свободы (например, право на жизнь, на свободу совести, на труд, на неприкосновенность частной жизни), которые в целом могут быть объединены в общую группу «свобода личности», то есть возможность управлять собой, выбирать вариант поведения в разных сферах общественных отношений.
Е.Ю. Бойко справедливо указывает, что в положениях ст. 22 Конституции РФ свобода понимается в узком смысле: свобода от физического и психического принуждения (физическая и духовная неприкосновенность), свобода действий и принятия решений, возможность располагать собой и не находиться под контролем, свобода по своему усмотрению перемещаться в пространстве; в ч. 2 ст. 22 Конституции РФ законодатель ограничился только физической составляющей (физической свободой) [1, с. 19, 22]. Мнения о комплексном толковании права на свободу и личную неприкосновенность придерживается А.П. Морозов, утверждая, что именно «расширенное толкование достаточно полно и точно отражает сущность данного института, нежели чисто уголовно-процессуальный подход» [7, с. 78, 80, 81, 85].
В широком смысле искомое конституционное право понимают О.Г. Селихова, то есть как «совокупность юридических возможностей индивида, связанных с реализацией его воли и защитой от неправомерного физического и психологического посягательства со стороны окружающих и государства» [9, с. 48], а также О.М. Сенин, называя его не- отъемлемым и неотчуждаемым, безусловно принадлежим индивиду от рождения естественным правом делать все, что не нарушает прав других людей и общества в целом в условиях защиты от посягательств [10, с. 11].
Несмотря на разнообразие научных позиций относительно понимания сущности категории «право на свободу и личную неприкосновенность» авторский взгляд на исследуемую конституционную дефиницию с учетом ее социальной обусловленности позволяет утверждать, что современное право, декларированное ч. 1 ст. 22 Конституции РФ, является выражением физической свободы личности и включает в себя право на личную свободу (возможность выбора варианта поведения и руководства своими действиями) и право на неприкосновенность физическую (недопустимость внешнего вмешательства в деятельность) и психическую (недопустимость влияния на сознание и волю), а также состояние зашишенности (безопасность).
При этом следует оговориться, что физическая свобода прежде всего наделена такими атрибутами материи, как пространственно-временная определенность. Это означает, что, реализуя право на свободу и неприкосновенность, распоряжаясь собой, личность осознанно по своей воле делает выбор нахождения в определенном месте (пространстве) на протяжении определенного временного отрезка.
Провозглашая само право, Конституция РФ в ч. 2 ст. 22 оговаривает основания и пределы допустимого ограничения указанного права в сфере уголовных и уголовно-процессуальных правоотношений. Как следствие, норма права конкретизирована в отраслевом законодательстве, в частности неприкосновенность личности является принципом уголовного судопроизводства. Наряду с этим регламентировано и уголовнопроцессуальное принуждение, ограничивающее исследуемое конституционное право. Результатом отраслевой конкретизации не может являться умаление конституционного смысла нормы (права на свободу и личную неприкосновенность). Соответственно, в основе деятельности, результатом которой является применение нормы права, прежде всего должно находиться понимание и уяснение содержания применяемой дефиниции. Как показывает статистика, правоприменители регулярно сталкиваются с проблемами определения конституционности используемых ими норм, уяснения их конституционного смысла, в частности норм, регламентирующих уголовное судопроизводство на досудебных стадиях1.
Понимание как компонент познавательного процесса подразумевает объяснение сущности искомого объекта и имеет однородное семантическое значение с понятием «толкование». Конституционно-правовое понимание характеризуется особым субъектом познания, который одновременно является и органом конституционного правосудия. Правовая позиция Конституционного Суда Учреждение в 1991 году Конституционного Суда РФ стало одним из демократических приобретений России. Занимая определенную правовую позицию, Конституционный Суд РФ высказывает аргументированные суждения относительно отдельных положений Конституции РФ, а также относительно конституционного смысла положений нормативно-правовых актов. Как справедливо отмечает П.С. Элькинд: «Толкование правовой нормы в связи с ее применением имеет ввиду уяснение выраженной в ней государственной воли не вообще, а применительно к конкретному случаю» [13, с. 68]. В отличие от толкования нормы права в связи с ее применением, деятельность Конституционного Суда РФ осуществляется в рамках конституционного судопроизводства и включает в себя не только внутренний мыслительный процесс по уяснению нормы права, но и адресованный рядовому правоприменителю (выраженный вовне), в том числе с целью обеспечения правильного и единообразного применения закона, исключения ошибок в применении нормы права.
Результат деятельности Конституционного Суда РФ имеет особое правовое значение именно потому, что решения данного органа государственной власти могут содержать в себе выводы о соответствии или несоответствии нормативных актов Основному закону государства, обладающему наибольшей юридической силой. О ценности конституционного толкования пишут М.А. Митюков и А.М. Барнашов: «...благодаря толкованию или интерпретации конституционных норм они приобретают не абстрактное, а реально содержание и смысл, начинают действовать, причем иногда в ином понимании, чем в том, которое им придавалось законодателем либо правоприменителем» [6, с. 243].
В юридической науке существовали разные мнения относительно юридической силы правовой позиции Конституционного Суда РФ. Н.В. Витрук указывает, что правовые позиции Конституционного Суда РФ приобретают характер конституционно-правовой нормы (принципов, понятий) в зависимости от объекта рассмотрения, но ими не становятся [4, с. 89]. Б.С. Эбзеев, напротив, считает, что решения Конституционного Суда РФ о казуальном толковании конституционных норм, по существу, становятся частью Конституции РФ [12, с. 12].
Несмотря на подобные разногласия, правовая позиция Конституционного Суда РФ, содержащаяся в конкретных актах правосудия, являясь ориентиром для нормот- ворческих органов и правоприменителей, в настоящее время имеет общеобязательный характер и в соответствии со ст. 79 ФКЗ от 21 июля 1994 года N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
Таким образом, право на свободу и личную неприкосновенность является надотраслевой конституционной дефиницией, характеризующей общий (конституционный) статус личности в современном государстве, поэтому его конституционно-правовое понимание предполагает как истолкование самой сущности права, так и уяснение конституционного смысла (высшего смысла юридической нормы, исключающего иное ее истолкование в юридической практике) нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения, возникающие в процессе реализации (ограничения) данного права в разных сферах общественной жизни. В содержании искомого находит юридическое выражение физическая свобода личности. Вместе с тем сущность права на свободу и личную неприкосновенность на отраслевом уголовно-процессуальном уровне является аутентичным с первостепенным конституционным смыслом. Особым значением в этой связи обладает конституционно-правовое понимание сущности права, которое содержится в отдельных актах конституционного правосудия.
Список литературы Конституционно-правовое понимание права на свободу и личную неприкосновенность и его значение в уголовном процессе
- Бойко, Е.Ю. Конституционный Суд Российской Федерации как гарант защиты права на свободу и личную неприкосновенность человека: дис. … канд. юрид. наук / Е.Ю. Бойко. - М., 2011.
- Витрук, Н.В. Конституционный статус личности в СССР / Н.В. Витрук, В.А. Масленников, Б.Н. Топорнин. - М.: Юридическая литература, 1985.
- Витрук, Н.В. Общая теория правового положения личности / Н.В. Витрук. - М.: Норма, 2008.
- Витрук, Н.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации: понятия, природа, юридическая сила и значение / Н.В. Витрук // Конституционное правосудие в посткоммунистических странах: сборник докладов. - М., 1999.
- Корнуков, М.В. Теоретические и правовые основы положения личности в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … докт. юрид наук / М.В. Корнуков. - Харьков, 1987.
- Митюков, М.А. Очерки конституционного правосудия (сравнительно-правовое исследование законодательства и судебной практики) / М.А. Митюков, А.М. Барнашов. - Томск: Издательство Томского университета, 1999.
- Морозов, А.П. Конституционное право человека и гражданина на свободу и личную неприкосновенность в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук / А.П. Морозов. - Саратов, 2002.
- Патюлин, В.А. Государство и личность / В.А. Патюлин. - М.: Наука, 1974.
- Селихова, О.Г. Конституционно-правовые проблемы осуществления права на свободу и личную неприкосновенность: дис. … канд. юрид. наук / О.Г. Селихова. - Екатеринбург, 2002.
- Сенин, О.М. Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность: дис. … канд. юрид. наук / О.М. Сенин. - М., 2009.
- Шершнева, Е.А. Создание Конституции СССР 1936 года: дис. … канд. юрид. наук / Е.А. Шершнева. - М., 2011.
- Эбзеев, Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом Российской Федерации: теоретические и практические проблемы / Б.С. Эбзеев // Государство и право. - 1998. - N 5.
- Элькинд, П.С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права / П.С. Элькинд. - М.: Юрид. лит., 1967.
- Яцкова, А.П. Основные государственные законы Российской империи 22 апреля 1906 г. - первая российская конституция: дис. … канд. юрид. наук / А.П. Яцкова. - М., 2001.