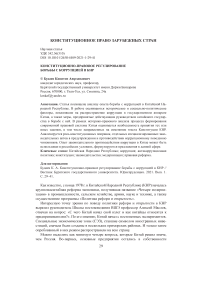Конституционно-правовое регулирование борьбы с коррупцией в КНР
Автор: Будаев Капитон Аюрзанаевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция @vestnik-bsu-jurisprudence
Рубрика: Конституционное право зарубежных стран
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу опыта борьбы с коррупцией в Китайской Народной Республике. В работе оцениваются исторические и социально-политические факторы, повлиявшие на распространение коррупции в государственном аппарате Китая, а также меры, предпринятые действующим руководством китайского государства в борьбе с ней. В рамках историко-правового анализа процесса формирования современной правовой системы Китая оценивается необходимость принятия тех или иных законов, в том числе направленных на изменение текста Конституции КНР. Анализируется роль конституционных поправок, отдельных специализированных законодательных актов в предупреждении и противодействии коррупционному поведению чиновников. Опыт законодательного противодействия коррупции в Китае может быть использован в российских условиях, формулируются предложения в данной сфере.
Китайская народная республика, коррупция, антикоррупционная политика, конституция, законодательство, модернизация, правовая реформа
Короткий адрес: https://sciup.org/148317917
IDR: 148317917 | УДК: 342.56(510) | DOI: 10.18101/2658-4409-2021-1-29-41
Текст научной статьи Конституционно-правовое регулирование борьбы с коррупцией в КНР
Будаев К. А. Конституционно-правовое регулирование борьбы с коррупцией в КНР // Вестник Бурятского государственного университета. Юриспруденция. 2021. Вып. 1. С. 29–41.
Как известно, с конца 1978 г. в Китайской Народной Республике (КНР) началась крупномасштабная реформа экономики, получившая название «Четыре модернизации» в промышленности, сельском хозяйстве, армии, науке и технике, а также осуществление программы «Политика реформ и открытость».
Интересную точку зрения по поводу политики реформ и открытости в КНР выразил руководитель Школы востоковедения ВШЭ профессор Алексей Маслов, отвечая на вопрос: «С чего Китай начал свой взлет и как китайцы относятся к предпринимателям?». По его мнению, Китай начал с постепенных экспериментов. Специальные экономические зоны (СЭЗ), ставшие символом иностранных инвестиций, сначала были созданы в нескольких приморских районах. И только затем опробованный в них режим распространили на всю страну.
Можно выделить как минимум четыре вопроса, которые Китай решил иначе, чем Россия. Во-первых, основные предприятия остались в собственности государства, поэтому представителям частного бизнеса пришлось создавать новые производства. Во-вторых, условия для привлечения иностранного капитала были установлены довольно жесткие. Китайские власти предоставили иностранным компаниям рынок для сбыта товара, но при этом активно заимствовали имеющиеся у них технологии производства. В-третьих, проводилась последовательная политика по поддержке курса национальной валюты — юаня. В-четвертых, вплоть до конца 1990-х гг. заработанная на территории Китая валюта не могла быть вывезена за границу, тем самым китайские власти аккумулировали свои валютные резервы [5].
Также А. Маслов отмечает хорошее отношение китайских властей к предпринимателям. Они, с одной стороны, поддерживали развитие предпринимательства, не рассматривали частных бизнесменов как «жуликов», а с другой — четко разделяли интересы бизнеса и государства. С древних времен в Китае торговцам невозможно было занять должности на государственной службе. Такой подход сохраняется и в наши дни. Невозможно представить ситуацию, при которой представители бизнеса переходят на высокие посты в государственном управлении, или наоборот: чиновники высокого ранга становятся управляющими бизнес-империей. Не приветствуется также занятие коммерцией членами семей руководителей партии и государства [5].
По информации политолога-международника Антона Барбашина, Китай все более уверенно чувствует себя в роли поднимающейся экономической и военной державы. Он «заваливает» Америку своими товарами (экспорт в США в 2012 г. составил 319,4 млрд долларов) и все сильнее привязывает ее к себе как должника (Китай — крупнейший держатель долговых обязательств США: 1,73 трлн к концу 2012 г.). Его военные расходы растут — по некоторым оценкам, в 2012 г. они составили уже 106,4 млрд долларов и стали вторыми в мире [1].
По мнению собственного корреспондента «Российской газеты» Евгения Соловьева, китайское экономическое чудо было бы невозможным без поддержки бизнеса партией и государством. Обеспечивая стабильность политической системы, органы власти создавали благоприятные условия для развития частного предпринимательства. В то же время нельзя не отметить и имеющиеся факты сращивания власти и бизнеса, когда возрастает значение так называемого «административного ресурса». Это, в свою очередь, свидетельствует о распространении коррупции. Конечно, китайские власти предпринимают меры по борьбе с этим явлением, вплоть до установления смертной казни за коррупционное поведение. К ответственности привлекаются как чиновники уездного (местного) уровня, так и представители высшего руководства: министры, мэры крупных городов (в частности, Шанхая) [11].
Еще ранее Ли Куан Ю, премьер-министр Сингапура в 1959–1990 гг., названный Генри Киссинджером отцом сингапурской государственности, сделавший Сингапур лидером в области высоких технологий в Юго-Восточной Азии, поднявший доход на душу населения с 1 тыс. долларов до 30 тыс. долларов, назвал коррупцию проблемой, грозящей тяжелыми последствиями для всего Китая. Коррупция, по мнению Ли Куан Ю, прочно вошла в саму культуру государственного управления. Многие представители высшего и местного руководства замешаны в коррупционных преступлениях. Это касается и работников правоохранительной системы, судей и прокуроров. Основной причиной этого явилось разрушение базовых моральных устоев в период «культурной революции». В то же время присущие высшему руководству Китая прагматизм и решительность, позволившие реализовать экономические реформы, способны помочь им и в преодолении этих трудностей [4, c. 539–540].
По мнению П. В. Трощинского, Конституция КНР 1978 г. стала основой правотворческого процесса [12, c. 67]. В год принятия Конституции 1978 г. на состоявшемся Всекитайском совещании по вопросам законодательного строительства была обнародована в форме доклада политико-юридической группы ЦК КПК программа принятия или восстановления наиболее важных для страны законодательных актов:
-
1) в хозяйственной сфере (в целях восстановления экономического порядка, скорейшего привлечения зарубежных инвестиций);
-
2) природоохранительной сфере (требования защиты экологии);
-
3) сфере охраны общественного порядка (восстановление разрушенных правоохранительных органов);
-
4) сфере организации государственных органов (восстановление разрушенных органов государства).
После пятнадцатилетнего перерыва важным правовым актом явилось Положение КНР «Об арестах и задержаниях» 1979 г. Этот документ способствовал совершенствованию правового регулирования в уголовной и уголовнопроцессуальной сферах, преодолению негативных последствий политики «культурной революции».
Важной новеллой в законодательстве становится принятие в 1979 г. Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов (впервые после образования КНР в 1949 г.). Также в конце 1970-х – начале 1980-х гг. опубликованы законы, регламентирующие деятельность народных судов, народной прокуратуры, статус адвокатуры и нотариата.
Все это стимулирует развитие юридической науки и образования. В высших учебных заведениях Китая открываются юридические факультеты и институты, преподаватели получают возможность выезжать в другие страны для повышения своей квалификации и обмена опытом научной деятельности. В конце 1970-х гг. издаются первые официальные учебники по юриспруденции, а несколько позже в Народном университете Китая — первые научные монографии.
Перемены в общественно-политической жизни, проводимые экономические реформы потребовали обновления конституционного акта. 4 декабря 1982 г. принимается четвертая по счету Конституция КНР (продолжает действовать и в настоящее время). Из текста Конституции были исключены положения о «культурной революции», закреплен переход КНР к многоукладной экономической системе.
П. В. Трощинский, отдавая должное Дэн Сяопину, отмечает, что за 20 лет проведенной им экономической реформы облик Китая существенно изменился: достигнут один из самых высоких в мире среднегодовых темпов экономического роста, в 4 раза увеличен ВВП на душу населения [12, c. 74]. Коренным образом изменилась правовая система Китая. Законодательство обогатилось большим количеством новых актов, в том числе и кодифицированного характера. Особое внимание китайские власти уделяли законодательному оформлению проводимых экономических реформ. В области государственного управления был восстановлен пост председателя КНР, реформирована организация и деятельность органов суда и прокуратуры. Более четко разделялись полномочия партийных и государственных структур. Имущественные отношения были урегулированы рядом новых законодательных актов, среди которых особую роль сыграли Общие положения гражданского права.
В социально-правовой сфере приняты законы КНР о защите инвалидов, защите несовершеннолетних, о профессиональных союзах, об обеспечении прав и интересов женщин, безопасности на шахтах и рудниках, об Обществе Красного Креста, а также Трудовой кодекс, Закон КНР о защите прав и интересов пожилых людей.
Однако нельзя не отметить и ряд проблем, с которыми столкнулся Китай. Среди них обострение социальных противоречий, вызванных возросшей разницей в доходах населения, рост преступности, распространение коррупции, экологические проблемы, вызванные развитием производства, декларативность ряда положений Конституции КНР, касающихся личных прав и свобод граждан [12, c. 64–76].
В сентябре 1997 г. в Пекине прошел XV съезд КПК, на котором председатель КНР Цзян Цзэминь выступил с докладом. Им было акцентировано внимание на необходимости «защищать авторитет Конституции и законов, твердо придерживаться равенства всех перед лицом закона, никакие лица, организации не имеют превышающих законы особых прав. Все правительственные органы обязаны осуществлять администрирование в соответствии с законом, реально обеспечивать права граждан, осуществлять систему ответственности и систему оценки, проводить проверки в сфере исполнения закона». В докладе также говорилось о стимулировании судебной реформы, гарантиях независимого и справедливого правосудия, ответственности за ошибочные судебные решения, повышении уровня правовой культуры граждан и многом другом, включая коррупционную проблематику. Цзян Цзэминь впервые определил коррупцию как реальную угрозу китайской государственности.
В марте 1999 г. были приняты поправки в Конституцию КНР. В статье 5 было закреплено, что «Китайская Народная Республика управляется согласно закону и становится социалистическим правовым государством». По мнению Л. М. Гудош-никова, «внесение этого дополнения непосредственно связано с заметным нарастанием и совершенствованием большого количества разнообразных правовых норм. Правовая реформа считается в КНР важным направлением политической реформы и вместе с активно ведущейся административной реформой в известной мере ее заменяет, так как политические институты почти не реформируются. Становление КНР в качестве правового государства — факт позитивный, но пока скорее программа, обращенная к будущему» [10, c. 14].
Еще одна поправка 1999 г.: «на начальной стадии социализма государство поддерживает экономическую систему, при которой общественная собственность доминирует и другие формы собственности развиваются параллельно, придерживается системы, при которой распределение по труду доминирует при сосуществовании с другими способами распределения». Партия признала за частным сектором экономики конституционное право на существование и развитие, что является следствием проводимого курса на построение «социалистической рыночной экономики» и значительно изменило содержание статьи 6 Конституции КНР.
Особого внимания заслуживают поправки в Конституцию КНР, внесенные в 2004 г. К этому времени китайское государство уже вступило в ВТО, в правовой системе появились некоторые уникальные акты правотворчества. Предложение о внесении конституционных поправок было сделано на XVI съезде КПК (8–15 ноября 2002 г.)1.
2001 год стал одним из наиболее успешных для экономического развития страны: КНР вступила во Всемирную торговую организацию. Это вызвало существенное изменение законодательства КНР в области регулирования имущественных и связанных с ними отношений. Появился целый массив актов в сравнительно новых для китайского законодателя сферах (интеллектуальная собственность, банковская деятельность, сфера борьбы с легализацией преступных доходов и др).
Конституционные поправки 1999 г. и 2004 г. привели к принятию новых уникальных законодательных актов. Примером может послужить Закон КНР о правотворчестве, в котором подробно регламентирована процедура принятия актов ВСНП и его Постоянного комитета, Государственного совета и других органов государства. Мы полностью поддерживаем позицию П. В. Трощинского, особо отметившего важность закрепленного в части 2 статьи 90 положения, предоставляющего гражданам КНР наряду с государственными органами и общественными объединениями право на письменное обращение в ПК ВСНП с требованием проверки на соответствие действующих актов правотворчества законам и Конституции КНР [11, c. 88].
В ноябре 2010 г. в Москве прошел круглый стол на актуальную тему: «Россия — Китай». Одним из докладчиков выступил Яков Михайлович Бергер, патриарх российского китаеведения, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, который в своем выступлении отметил: «Проблема коррупции — не основная в моих исследованиях, но, поскольку я, в частности, занимаюсь проблемами экономического и политического развития, конечно, миновать эту проблему невозможно».
Первым пунктом проблемы, которой коснемся, является социально-исторический фон, непосредственно относящийся к вопросу коррупции Китая. Это, на наш взгляд, система межличностных отношений в китайском обществе (по-китайски «гуанси»), которая нигде в мире больше не встречается, во всяком случае в таком виде. Система отношений гуанси — это система не коррупционная, но она создает весьма благоприятный фон и для развития коррупционных отношений. Она подразумевает наличие некоего социального кода, который позволяет определять отношения к другому человеку: «свой» — «не свой». Это могут быть связи по линии места проживания, землячества; связи по линии учебы в одном университете или в одной школе; по работе и так далее.
Второй пункт — социально-исторический фактор, являющийся предпосылкой коррупции в Китае, — это семейственность, прямая или косвенная, и здесь, в отличие от системы гуанси, Китай не является исключением. Сейчас эти связи, конечно, ослабляются, как и система гуанси, но тем не менее они значимы. Вообще система наследования власти по родственной линии, как мы знаем, распространена не только в Китае, но и во многих странах Востока.
В качестве третьего пункта затронем не социально-исторический контекст, а связь с реформами, которые проводились в Китае в последние 30 лет и будут проводиться дальше. Следует подчеркнуть, что коррупция в Китае отзывчива на реформы, видоизменяется, приобретает новые формы по мере того, как продвигаются рыночные реформы. Сегодня коррупция тесно связана с рыночными преобразованиями. Например, в самом начале реформ разгул коррупции был вызван тем, что она удачно приспосабливалась к так называемой двухколейной системе ценообразования. В плановой системе, родной и для нас, и для Китая, цены определялись просто: начальство их назначало, люди принимали. Когда Китай стал поступательно переходить к рыночной системе, стали действовать две системы цен: одна система — плановая, касающаяся отпускных цен, и вторая — рыночная. Эта система «двухколейного» образования цен давала колоссальный простор для коррупции. Люди могли получать по плановым фондам определенные товары, и эти товары тут же уходили на рынок по совершенно иным ценам. Так начиналась сегодняшняя коррупция в Китае: эти две системы имели чрезвычайное значение для распространения коррупции.
Существовала система двух форм финансирования: бюджетные и внебюджетные формы. Поначалу, когда рыночные отношения стремительно развивались, они затрагивали не только те сферы, где реально и вполне закономерно рыночные отношения могли и должны были иметь место, но и те сферы, где эти отношения, как правило, не развиваются. Это прежде всего армия, затем система образования, система здравоохранения и так далее. Армия, поначалу очень слабо финансировавшаяся из бюджета, получила право зарабатывать деньги для себя, и офицеры, генералы чрезвычайно интенсивно торговали тем, что у них было — живой силой, помещениями, гостиницы создавали... Какая колоссальная коррупция была взращена на этой почве. Затем от внебюджетного финансирования армии и полиции отказались, но корни остались.
Неудачно развивалась реформа здравоохранения в Китае. Сейчас в стране приступают к очередной третьей реформе здравоохранения. Прежняя система позволяла врачам выписывать ненужные дорогие лекарства и тем самым способствовала развитию коррупции в этой сфере.
Четвертый пункт, который содействовал и продолжает содействовать коррупции, — это недостатки политической системы, прежде всего недостатки сдержек и противовесов в отправлении властных функций. Особую роль в этом играла коррумпированность правоохранительных органов.
И еще один пункт — размывание моральных норм. Не было серьезных политических сдержек коррупции, институциональных форм, но, по сути дела, канули в вечность те моральные нормы, которые прежде все-таки как-то сдерживали коррупцию — как до революции, так и после. После революции коррупция сдерживалась установкой на коммунистическое бессребреничество и бескорыстие.
В 2003 г. Китай присоединился к антикоррупционной конвенции ООН. В значительной мере активизировалась деятельность главного партийного органа по борьбе с коррупцией — Комиссии по проверке партийной дисциплины [2, c. 15–19].
Теме борьбы с коррупцией в Китае посвятил несколько страниц в своей книге «Подъем Китая» известный российский историк, публицист, политический деятель Рой Александрович Медведев [6]. По его мнению, «коррупция в разных формах и масштабах существует в любой стране мира, и методы борьбы с ней очень различны». В Китае коррупция — это очень давняя болезнь и существует здесь в самых примитивных и грубых формах. Однако китайское государство прибегает в борьбе с этим злом к очень радикальным методам. Обычный приговор для чиновников любого ранга, уличенных в коррупции, — расстрел. Еще недавно эти расстрелы проводились публично — на стадионах и с последующим показом по телевидению. Ссылаясь на китайские данные, «Российская газета» (от 25 июня 2009 г.) сообщала, что в КНР в 2000–2008 гг. было расстреляно по обвинению в коррупции около 10 тысяч чиновников. Еще 120 тысяч чиновников разного ранга были осуждены в эти же годы на длительные сроки заключения. В списках расстрелянных оказались и известные в Китае люди, такие как олигарх из провинции Гуандун Хуан Гуаньюя, осужденный на долгие годы тюрьмы за незаконную деятельность. Однако вместе с крупным бизнесменом был арестован и мэр города Шэньчжэнь Сюй Цзухэн, который поощрял и прикрывал этот криминальный бизнес. Еще до судебного процесса в комментариях главной газеты КПК «Жэньминь Жибао» писали: «Пусть дрожат люди, похожие на Сюя. Мы окружим их стеной. Шторм только начался». Такие слова оставляли мало надежды для арестованных коррупционеров.
Как писала китайская печать, именно в 2009 г. в Китае был нанесен «сокрушительный удар по коррупции», были привлечены к ответственности за коррупцию несколько тысяч высокопоставленных чиновников на уровне уезда/отдела и около 20 чиновников провинциального и министерского уровня. Так, например, еще в январе 2009 г. был приговорен к расстрелу (с отсрочкой исполнения приговора) бывший вице-мэр города Пекин Лю Чжихуа. Всего за 2009 г. было расследовано почти 14 тысяч дел, связанных с финансовыми преступлениями, ущерб от которых определен суммой в 3,3 млрд юаней [6, c. 214–218].
Российский журналист В. Овчинников, проработавший семь лет собственным корреспондентом газеты «Правда» в КНР, пишет: «широкий резонанс в Китае имело уголовное дело вице-мэра Пекина Лю Чжихуа (был расстрелян за злоупотребления в процессе руководства наукоградом, расположенном в северо-западном предместье Пекина) и первого секретаря (по существу, мэра) Пекина Чэнь Ситуна (получившего шестнадцать лет тюрьмы за коррупцию)».
Поразила коррупция и законодательные органы Китая. Самым громким событием в этой области стало привлечение к уголовной ответственности заместителя председателя ПК ВСНП Чэн Кэцзе, обвиненного в коррупции в особо крупных размерах. Его дело интересно тем, что изъятые в ходе следствия почти восемь миллионов долларов были в последующем присвоены работниками Управления по борьбе с коррупцией. Это привело к новому витку антикоррупционных расследований, затронувших более чем 1300 инспекторов названного выше Управления, из которых 756 получили партийные взыскания, а 73 были привлечены к уголовной ответственности. Громкими были дела против мэра Шанхая Чэнь Ляньюя, присвоившего около 400 миллионов долларов из пенсионного фонда Шанхая, а также заместителя министра общественной безопасности КНР генерала Ли Цзичжоу, который оказался замешан в контрабанде автомобилей и нефти на три миллиарда долларов. Вместе с ним по уголовному делу проходили около двухсот сотрудников полиции и таможни [7, c. 76–79].
В. Овчинников в своей книге приводит пример того, как в КНР пресекли деятельность так называемых финансовых пирамид. В начале 1994 г. в Китае был создан инвестиционный фонд, создатели которого предложили вкладчикам доход в 5 процентов от вложенной суммы в месяц, то есть 60 процентов годовых. Активное участие в работе фонда приняли руководители предприятий, использовавшие не по назначению имеющиеся у них средства (в том числе фонды оплаты труда). Но китайские правоохранительные органы менее чем за год сумели расследовать деятельность фонда. Трое его создателей были отданы под суд и публично расстреляны. После такого жесткого наказания новых финансовых пирамид в Китае не было [7, c. 80].
Евгений Черных в статье «Китай богатеет потому, что учится на ошибках СССР», опубликованной в «Комсомольской правде», сообщил, что на 18-м съезде КПК сменились глава партии и премьер и что на съезде прямо прозвучало: коррупция — угроза развитию страны. И если партия окончательно увязнет в коррупции, это будет стоить государственности Китая. Китайская Компартия смотрит на вещи трезво. Их путь борьбы с коррупцией — демократизация. Расширяется выборность должностей снизу до самого политбюро: его 25 членов выбирались на съезде из 30 претендентов [12, c. 4]. В статье Андрея Яшлавского «Ху из Си? Китайский руководитель пятого поколения: человек-загадка» написано о карьере Си Цзиньпина. Будущий председатель КНР прошел долгий путь, занимая должности в канцеляриях Госсовета КНР и канцелярии Центрального военного совета, работая в органах управления уездов и провинций, возглавляя партийные органы Шанхая.
Будучи избран на пост генерального секретаря КПК, Си Цзиньпин в числе основных проблем, стоящих перед партией, назвал коррупцию. Как было написано в New York Times, новый генеральный секретарь, «по-видимому, начнет свое правление с сигналов о закручивании гаек против коррупции. Китайские официальные лица произвели уже немало антикоррупционного шума за последние несколько лет, притом что взяточничество распространяется в обществе словно рак, но антикоррупционная риторика Си более зловещая и агрессивная. Приступая к такому значительному делу в самом начале срока своего правления, он рискует разрушить весь престиж и авторитет, если не покажет результатов» [13, c. 28].
Как было отмечено на XVIII съезде КПК, одной из серьезных угроз китайской государственности выступает коррупция. Именно Си Цзиньпин более решительно, чем кто-либо из предыдущих руководителей КНР, ведет борьбу с ней. В обнародованных канцелярией КПК и канцелярией Государственного совета 19 апреля 2017 г. «Положении о соответствующих пунктах личного доклада руководящего кадра» и «Правилах проверки результатов личного доклада руководящего кадра по соответствующим пунктам» более четко прописывается обязанность китайского чиновника предоставлять достоверную и полную информацию о своей личности и членах своей семьи в партийные органы (российский аналог декларирования имущества). Так, «руководящий кадр» регулярно должен отчитываться о своем семейном положении (включая отчет о вступлении своих детей в брак с иностранцами, переезде членов семьи на жительство за границу, местах их работы и др.); частных поездках за границу, а также в Гонконг, Макао и на Тайвань; привлечении к юридической ответственности себя либо членов своей семьи; зарплате либо иных доходах; личном имуществе и имуществе близких родственников; наличии ценных бумаг у себя либо у близких родственников, счетов за границей; инвестиционной деятельности; участии близких родственников в различных коммерческих структурах и др. Полная прозрачность личной, общественной и государственной жизни чиновника (членов его семьи) для власти рассматривается как залог успешной борьбы с коррупцией.
Для тех чиновников, которые покинули государственную службу, действуют ограничения на устройство на коммерческие предприятия, в посреднические фирмы, если таковые имеют какое-либо отношение к исполняемым ранее должностным лицом обязанностям. Власти также запретили судьям Верховного народного суда работать в юридических компаниях в течение трех лет после увольнения из судебной системы. Статус занятости уволенных судей должен проверяться не менее одного раза в год.
Несмотря на все сложности, имеющиеся в деле борьбы с коррупцией, руководство КНР, как свидетельствует статистика за 2012–2017 гг., показывает довольно неплохие результаты:
-
- 96 870 человек привлечено по делам о взяточничестве (38,1%);
-
- 74 925 — по делам о коррупции (29,4%);
-
- 26 993 — за халатное отношение к служебным обязанностям (10,6%);
-
- 24 384 — за злоупотребление служебным положением (9,6%);
-
- 17 173 — за использование не по назначению общественных средств (6,7%);
-
- 8679 — за совершение иных преступлений (3,4%);
-
- 4476 — за совершение преступлений из корыстных побуждений (1,8%);
-
- 919 — за совершение посягательств на права граждан путем использования служебного положения (0,4%).
Вот последняя информация по результатам борьбы с коррупцией в КНР, которую озвучил на страницах январского номера газеты «Аргументы и факты» (2021) корреспондент из Уфы И. Савин: «Лая Сяоминя, возглавлявшего китайскую компанию по управлению активами так называемой "большой финансовой четверки", обвинили в получении взяток в 1,79 млрд юаней (276,7 млн долл.). Также он был признан виновным в хищении более 25 млн из государственных средств. СМИ сообщали, что у Лая Сяоминя в квартире в Пекине, которую он прозвал "супермаркет", были сейфы и шкафы, полные наличных денег. У него найдены золотые слитки, роскошные автомобили, банковский счет на имя матери с сотнями миллионов и недвижимость, которую он подарил многочисленным любовницам. "Ляй Сяоминь стоял вне закона и был чрезвычайно жадным", — говорится в заявлении суда. Смертный приговор главному банкиру страны был вынесен без двухлетней отсрочки, что говорит об особой тяжести совершенных им преступлений. Через несколько дней пожизненный срок получил экс-председатель Китайского банка развития Ху Хуайбан за взятки в 85,5 млн юаней» [8, c. 12].
Развернутая Си Цзиньпином борьба с коррупцией проходит под лозунгом «бить тигров, мух и охотиться на лис» (то есть бороться как с крупными, так и с мелкими коррупционерами, требовать возвращения из-за рубежа беглых коррупционеров). В порядке экстрадиции Китаю удалось добиться возвращения 222 коррупционеров (у КНР имеются соглашения о взаимной выдаче преступников с 42 странами), в том числе 35 человек из особого списка «ста беглых коррупционеров». В гражданско-правовой сфере планируется к принятию единый Гражданский кодекс, которого до настоящего времени в Китае нет. Вместо него действуют принятые в новой редакции в марте 2017 г. Общие положения гражданского права КНР (аналог Общей части ГК РФ), а также закон КНР «О вещных правах» (2007), закон КНР «Об ответственности за нарушение прав» (2009), закон КНР «О применении законодательства в гражданско-правовых отношениях с участием иностранных лиц» (2010) и некоторые другие законы (закон КНР «О патентах», закон КНР «О товарных знаках», закон КНР «Об авторском праве», закон КНР «О договорах», закон КНР «О компаниях»), которые в будущем станут составными частями ГК КНР. В марте 2018 г. (с 5-го по 20-е число) в Пекине прошла первая сессия ВСНП нового 13-го созыва. Одним из основных вопросов, включенных в повестку, было принятие поправок в Конституцию КНР.
В свете рассматриваемого нами вопроса особое внимание следует уделить поправке № 21 (статья 52), согласно которой в систему органов государственной власти были включены контрольные комитеты. Также помимо конституционного регулирования деятельность новых органов власти была отражена в специальном законе КНР «О контроле». Необходимость осуществления централизованного управления антикоррупционной политикой была озвучена Си Цзиньпином еще в январе 2016 г. на заседании Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Вызвано это было существовавшим на тот момент дублированием полномочий комиссий по проверке дисциплины и органов прокуратуры при расследовании коррупционных дел. Это затрудняло общую работу по борьбе с коррупцией, создавало множество формальных проблем процессуального характера.
Включение в текст Конституции КНР раздела «Контрольный комитет» свидетельствует о появлении в Китае новой контрольной ветви власти (которая теоретически была обоснована еще в работах Сунь Ятсена, а практически реализована на Тайване). Новый орган власти — Государственный контрольный комитет — призван обеспечить централизованное осуществление следственных действий в рамках расследования дел о коррупции. Контрольные комитеты объединяют в себе полномочия комиссий по проверке дисциплины и антикоррупционных управлений прокуратуры. Они наделяются широкими процессуальными полномочиями, а прокуроры из антикоррупционных управлений переходят в их штат. Подобная централизация призвана существенно повысить эффективность борьбы с коррупцией. Кроме того, контрольные комитеты должны охватить своей антикоррупционной деятельностью не только работу органов государства и партийные структуры, но и иные сферы общественной жизни (медицина, образование, наука, спорт и др.).
Вызывает интерес и конституционная поправка № 9 (статья 40), закрепляющая обязанность сотрудников государственных органов публично присягать на верность Конституции КНР. Данное правило впервые получило свое оформление в Постановлении ПК ВСНП от 1 июля 2015 г. и распространялось на членов ВСНП и ПК ВСНП, СНП и ПК СНП, работников Государственного совета, членов Центрального военного совета, судей, прокуроров и других государственных служащих. С 2018 г. это их конституционная обязанность.
Полный текст присяги звучит следующим образом: «Клянусь: быть преданным Конституции Китайской Народной Республики, защищать авторитет Конституции, исполнять установленные законом должностные обязанности, быть верным Родине и народу, честно выполнять свои обязанности, находиться под контролем народа, старательно бороться за превращение Китая в богатую, могущественную, демократическую, цивилизованную, гармоничную, прекрасную социалистическую модернизированную державу» [13, c. 108–126].
18 декабря 2018 г., выступая на торжественном собрании в честь 40-летия «политики реформ», председатель КНР Си Цзиньпин объявил о том, что «в борьбе с коррупцией достигнута убедительная победа». Как это удалось? Как указывает заместитель директора Института стран Азии и Африки Андрей Корнеев, при Си Цзиньпине действительно была развернута широкая антикоррупционная кампания. Количество государственных чиновников и партийных функционеров, привлеченных к ответственности за коррупцию, превышает, наверное, любые ранее имевшие место цифры. Такая непримиримая и беспрецедентная борьба с коррупцией во многом объясняет популярность Си Цзиньпина среди рядовых граждан Китая.
В период, предшествующий приходу Си Цзиньпина к власти, коррупция в Китае достигла невиданных масштабов. Публичная демонстрация сверхдоходов верхушки чиновничьего аппарата вызывала острое недовольство простых китайцев, чувствовавших углубляющуюся пропасть между собой и властью. Си Цзиньпин развернул антикоррупционную кампанию и начал массово привлекать коррупционеров к ответственности (по разным данным, в тюрьмы отправилось до 1 млн человек). Кроме того, в рамках борьбы с расточительством чиновникам запретили публичную демонстрацию своего богатства — обеды в дорогих ресторанах, приобретение роскошных автомобилей и недвижимости. Активизировалась работа по экстрадиции бежавших за границу коррупционеров. При этом руководство Китая постоянно подчеркивало, что борьба с коррупцией будет проводиться на постоянной основе и не закончится никогда [3, c. 18].
На вопрос, поможет ли в борьбе с коррупцией в России опыт КНР, следует ответить утвердительно. Нам следует изучать вопросы контроля за выводом финансов за рубеж, вопросы отделения руководства партийными органами от органов государственной власти, особенно в субъектах Российской Федерации, дальнейшего развития демократизации, ужесточения мер наказания за коррупцию, конфискации похищенного имущества, воспитания у молодежи высоких морально-нравственных ценностей, необходимости возвращения беглых коррупционеров, создания в Российской Федерации контрольных органов, усиления роли прокуратуры в борьбе с коррупцией с созданием у них следственных подразделений. Вызывает интерес принятие присяги государственными служащими о преданности Конституции страны. На наш взгляд, подобная практика может быть внедрена и в Российской Федерации, ведь Президент страны и главы субъектов принимают присягу, поэтому данное правило может быть распространено на всех государственных служащих.
Список литературы Конституционно-правовое регулирование борьбы с коррупцией в КНР
- Барбашин А. Почему нам надо мириться с Америкой // Московский комсомолец. 2013. 13–30 марта. URL: https://www.mk.ru/politics/2013/03/10/823518- pochemu-nam-nado-miritsya-s-amerikoy.html (дата обращения: 20.01.2021). Текст : электронный.
- Бергер Я. Диалог «Россия — Китай» / под редакцией Е. Калужской и др. Москва, 2010. 56 с. Текст : непосредственный.
- Карнеев А. Поможет ли в борьбе с коррупцией опыт Китая // Аргументы и факты. 2018. № 52. С. 18. Текст : непосредственный.
- Ли Куан Ю. Из третьего мира — в первый. История Сингапура (1965–2000). Москва, 2020. 576 с. Текст : непосредственный.
- Макурин А. С именем Мао. Чему китайцы учатся у нас, а чему нам стоит поучиться у них // Аргументы и факты. 2018. № 29. URL: https://aif.ru/money/ economy/s_imenem_mao_chemu_kitaycy_uchatsya_u_nas_a_chemu_nam_stoit_ pouchitsya_u_nih (дата обращения: 20.01.2021). Текст : электронный.
- Медведев Р. Подъем Китая. Что такое социализм по-китайски? Москва, 2012. 218 с. Текст : непосредственный.
- Овчинников В. В. Дальневосточные соседи. Москва, 2019. 416 с. Текст : непосредственный.
- Савин И. За что казнят олигарха в Китае // Аргументы и факты. 2021. № 3. С. 12. Текст : непосредственный.
- Современное законодательство Китайской Народной Республики: сборник нормативных актов / составитель, редактор и автор предисловия Л. М. Гудошников. Москва, 2004. 430 с. Текст : непосредственный.
- Соловьев Е. Китай в пятом поколении // Российская газета. 2013. 15 марта. URL: https://rg.ru/2013/03/14/kitay-site.html (дата обращения: 20.01.2021). Текст : электронный.
- Трощинский П. В. Эволюция правовой системы Китайской Народной Республики (1949–2018 гг.): историко-правовой аспект. Москва, 2018. 184 с. Текст : непосредственный.
- Черных Е. Китай богатеет, потому что учится на ошибках СССР // Комсомольская правда. 2012. 29 ноября. С. 4. Текст : непосредственный.
- Яшловский А. Ху из Си? Китайский руководитель пятого поколения: человек-загадка // Московский комсомолец. 2012. 28 нояб. — 5 дек. С. 28. Текст : непосредственный.