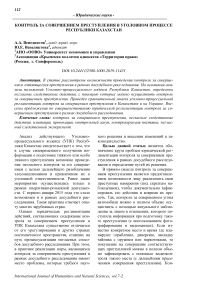Контроль за совершением преступления в уголовном процессе Республики Казахстан
Автор: Венедиктов А.А., Венедиктова Ю.Е.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 7-2 (34), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены возможности проведения контроля за совершением готовящегося преступления в рамках досудебного расследования. На основании анализа положений Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, определены негласные следственные действия, с помощью которых можно осуществить контроль за совершением преступления. Проведён сравнительный анализ уголовно-процессуальной регламентации контроля за совершением преступления в Казахстане и на Украине. Внесены предложения по совершенствованию юридической регламентации контроля за совершением преступления в рамках досудебного расследования.
Контроль за совершением преступления, негласные следственные действия, имитация, провокация, контрольный закуп, контролируемая поставка, негласный следственный эксперимент
Короткий адрес: https://sciup.org/170190632
IDR: 170190632 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11431
Текст научной статьи Контроль за совершением преступления в уголовном процессе Республики Казахстан
Анализ действующего Уголовнопроцессуального кодекса (УПК) Республики Казахстан свидетельствует о том, что в случае своевременного получения информации о подготовке тяжкого или особо тяжкого преступления возможно проведение негласного контроля за его совершением с целью дальнейшего разоблачения злоумышленников и привлечения их к уголовной ответственности. Ранее такие мероприятия осуществлялись только в рамках оперативно-розыскной деятельности. С первого января 2015 года это стало возможным и в рамках досудебного расследования. Такая практика отвечает опыту многих зарубежных стран.
Однако юридическая регламентация действий, составляющих содержание контроля за совершением преступления в УПК Казахстана существенно отличается от его урегулирования в других странах постсоветского пространства, ставших на путь процессуализации негласных способов досудебного расследования. При этом, в практике реализации норм, касающихся контроля за совершением преступления в рамках досудебного расследования имеют место проблемы, которые требуют науч- ного решения и внесения изменений в законодательство.
Целью данной статьи является обозначение круга проблем юридической регламентации контроля за совершением преступления в рамках досудебного расследования и определение путей их решения.
В прямом смысле контроль за совершением преступления является предоставлением возможности лицу реализовать свои преступные намерения (под скрытым наблюдением), чтобы документально зафиксировать его действия и вовремя их пресечь. Так, контроль за совершением угона автомобиля можно в полном объеме осуществить с помощью визуального наблюдения за лицом в отношении, которого поступила информация про подготовку такого преступления (с использованием фотографирования и видеозаписи). Если известно конкретное место и время где планируют ограбление, диверсию, закладку тайника с оружием или наркотиками, то покушение на совершение соответствующих преступлений можно в полном объеме зафиксировать с помощью видеоконтроля такого места (с дальнейшим пресечением совершения преступления). Кон- троль кражи из квартиры или частного дома может быть проведен с помощью визуального наблюдения за входом и окнами, а также наблюдения внутри помещения [1, с. 249].
Сегодня всё это можно реализовать в рамках досудебного расследования на основании норм главы 30 КПК Республики Казахстан «Негласные следственные действия» (НСД).
Введение таких действий в уголовный процесс активно критиковали учёные и практики. Так, А. Я. Гинзбург, анализируя проект ныне действующего УПК, указывал, что установить в кодексе процедуры НСД, невозможно, поскольку это противоречит Закону Республики Казахстан «О государственных секретах». Учёный, совершенно справедливо замечал, что следственное действие нельзя считать таковым, если порядок его проведения законом не предусмотрен [2]. В этом плане А. Я. Гинзбурга поддерживают исследователи занимающиеся вопросом НСД уже после введение в действие УПК Республики Казахстан [3, с. 41-47; 4, с. 232-242]/
Как следует из изложенного, проблема состоит не в том, что вообще невозможно регламентировать процедуру НСД, а в том, что это связано с отнесением данной процедуры к государственной тайне. Однако в современном мире невозможно утаить информацию о негласных методах работы правоохранительных органов (она содержится в художественной, научной литературе, разнообразных форумах и сайтах в сети Интернет, а также в других открытых источниках [6-11]).
Бессмысленность засекречивания указанной информации обосновывается как экономическими и политическими причинами, так и логикой. По нашему мнению, предметом государственной тайны должны выступать не указанные методы (а, тем более не процедуры) а то кто, в отношении кого и когда их использует. При этом конкретные тактические приёмы, тактикотехнические характеристики специальных средств вполне могут быт сохранены в тайне, как такие, что не имеют процессуального значения и не важны для установ- ления объективной истины по уголовному делу.
Поэтому процедуры НСД можно и нужно прописывать в законе. Примером тому может служить Уголовный процессуальный кодекс Украины, где регламентируются процедуры отдельных негласных следственных (розыскных) действий. Этот документ далёк от совершенства. Его положения в части проведения указанных действий активно критикуют украинские учёные. Однако их критика направлена именно на совершенствование законодательной регламентации процедуры негласных следственных (розыскных) действий, её детализацию [12-16].
Исходя из этого и ориентируясь на предмет нашего исследования, будем анализировать регламентацию в УПК Республики Казахстан тех НСД, которые могут составить содержание контроля за совершением преступления. В частности, такой контроль в рамках досудебного расследования можно провести на основании статей 242 (негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места) и 248 (негласное наблюдение за лицом или местом) УПК Республики Казахстан.
Так, ч. 1 ст. 242 УПК Республики Казахстан предполагает, что негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица - это негласный контроль речевой и иной информации, а также действий лица, производимый при необходимости путем негласного проникновения и (или) обследования, с использованием видео-, аудиотехники либо иных специальных научно-технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе.
Часть вторая этой статьи определяет, что негласные аудио- и (или) видеоконтроль места - это негласный контроль разговоров и других звуков и (или) событий, происходящих в строго определенном месте, производимый при необходимости путем негласного проникновения и (или) обследования места, с использованием видео-, аудиотехники либо иных специальных научно-технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе.
Статья 248 УПК Республики Казахстан устанавливает, что негласное наблюдение за лицом или местом осуществляется, при необходимости, с использованием технических средств видео-, фотонаблюдения без осуществления аудиозаписи речевой и иной звуковой информации.
Элементарный анализ указанных норм показывает, что фактически главным критерием разграничения НСД предусмотренных статьями 242 и 248 является возможность осуществления аудиозаписи речевой и иной звуковой информации: в первом случае она разрешена, во втором – запрещена. Однако, на наш взгляд, этот критерий не имеет весомого юридического значения. Такое значение имеет, прежде всего, места, где проводятся соответствующие действия. Их следует разделить на публично доступные (улицы, праки, скверы, пустыри, торговые центры и т.д.) и публично не доступные (жилье, частные предприятия служебные кабинеты и пр.). Сообразно этому следует выделять и два основных вида негласного наблюдения (с использованием аудио и видеозаписи, фотографирования и специальных технических средств, для дистанционного визуального и звукового контроля), которые должны иметь разные юридические основания. Так, для проведения наблюдения в публично недоступных местах вынесение соответствующего постановления следственным судьёй должно быть необходимым условием. Если же НСД проводятся в местах общедоступных, то в таком постановлении нет смысла.
Кроме статей 242 и 278 в УПК Республики Казахстан есть отдельная статья, которая устанавливает специальный вид контроля за совершением преступления. Речь идёт о негласном контрольном закупе (ст. 250), который проводится с целью получения фактических данных о совершаемом или совершенном уголовном правонарушении путем создания ситуации мнимой сделки. При этом у лица, в отношении которого имеются достаточные основания полагать о его причастности к уголовному правонарушению, возмездно приобретаются предметы или вещества, свободная реализация которых запрещена либо обо- рот которых ограничен законом, а также являющиеся объектами или орудиями преступных посягательств.
В данном случае сторона обвинения не только тайно наблюдает за действиями злоумышленников, а и активно взаимодействует с ними, инсценируя закупку определённых предметов или веществ.
В уголовно-процессуальном законодательстве некоторых стран постсоветского пространства правовое поле для совершения стороной обвинения подобного взаимодействия с использованием инсценировок гораздо шире. Так ч. 1 ст. 271 УПК Украины устанавливает, что контроль за совершением преступления может осуществляться в случаях наличия достаточных оснований полагать, что готовится совершение или совершается тяжкое или особо тяжкое преступление, и проводится в следующих формах:
-
1) контролируемая поставка;
-
2) контролируемая и оперативная закупка;
-
3) специальный следственный эксперимент;
-
4) имитирование обстановки преступления.
Все эти действия известны в теории и практике оперативно-розыскной дельности. При этом поставка и закупка именуются по-разному: негласная, оперативная, контрольная, контролируемая и пр. Анализ украинской научной литературы свидетельствует, что специальный следственный эксперимент и имитирование обстановки преступления по своему содержанию отвечают мероприятию известному в теории ОРД как оперативный эксперимент.
В настоящее время все формы контроля за совершением преступления, указанные в статье 271 УПК Украины используются органами досудебного расследования этой страны для разоблачения взяточников, вымогателей, заказчиков убийств и пр. – в рамках уголовного процесса. Однако при этом возникает масса проблем. Ведь ни одно из положений ст. 271 УПК Украины не содержит понятия контроля за совершением преступления. Отсутствуют в законе и определения контролируемой по- ставки, контролируемой и оперативной закупки, специального следственного эксперимента и имитирования обстановки преступления как отдельных форм контроля за совершением преступления, предусмотренных кодексом.
В данном случае, в отличие от других негласных следственных (розыскных) действий, чётко регламентированных УПК Украины, непонятно о чем идет речь. Такой подход законодателя к детальной регламентации содержания одних действий и только поверхностного обозначения других считаем неоправданным. Ведь, как следует из утверждений таких украинских учёных как Н. А. Погорецкий [17, с. 225] В. М. Тертишник, В. Г. Уваров О. В. Сачко [18, с. 135], это нарушает принцип юридической определенности.
Пробелы в украинском законодательстве пытались ликвидировать в подзаконных нормативно-правовых актах. Так, разработчики межведомственной Инструкции об организации проведения негласных следственных (розыскных) действий и использования их результатов в уголовном производстве от 16 ноября 2012 [19] привели определение каждой из форм контроля за совершением преступления, даже с разграничением контролируемой и оперативной закупки. Однако эти определения имеют расплывчатый характер и поддаются справедливой критике, которая, касается: охвата содержания одной формы другой; невозможности их четкого разграничения; использования неоднозначных терминов («соответствующие условия», «наблюдение за принятием решений», «обстановка приближена к реальной», «создание впечатления») [20, с. 67].
В целом вызывает сомнения целесообразность попытки регламентировать контроль за совершением преступления отельной статьёй УПК. Ведь такой контроль можно осуществлять и без применения инсценировок и имитаций – путём скрытого наблюдения. В отличие от проверочной закупки и оперативного эксперимента, он не предполагает взаимодействия стороны обвинения с подозреваемыми лицами. Его проводят с использованием других средств.
Так или иначе, контроль за совершением преступления заканчивается открытыми следственными действиями – обыском, осмотром, выемкой, освидетельствованием. Эти действия помогают закрепить фактические данные о совершении преступления, которые потом будут использоваться как доказательства наряду с результатами НСД.
Таким образом, контроль за совершением преступления целесообразно регламентировать как систему определённых гласных и негласных следственных действий. При этом в уголовном процессе необходимо четко урегулировать возможность использования имитаций (инсценировок) при проведении НСД.
В УПК Республики Казахстан о возможности использования имитации чётко сказано только в статье 251: «Внедрение и (или) имитация преступной деятельности осуществляются с письменного согласия лица, внедренного и (или) имитирующего преступную деятельность, с целью получения фактических данных о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях». Таким образом, имитация может: либо составлять содержание отдельного НСД; либо проводиться совместно с оперативным внедрением. При этом ёё сущность законодателем не определена.
В ст. 273 УПК Украины предусмотрена возможность использования «ненастоящих (имитационных) средств», однако о том, что это такое законодатель тоже умалчивает.
На наш взгляд, предметом процессуальной регламентации должны выступать не средства имитации (как в УПК Украины), а имитация (инсценировка) как таковая. При этом она не должна составлять содержание отдельного следственного действия (как в УПК Республики Казахстан), а тем более, связываться только с внедрением в преступную среду. Ведь имитация направлена лишь на создание условий необходимых для получения доказательств по уголовному делу, а не на непосредственную фиксацию фактических данных о преступлении. Указанную ими- тацию целесообразно обозначить как негласный следственный эксперимент.
Предметом инсценировки (специального следственного эксперимента) может быть: принятие заказа на совершение тяжкого или особо тяжкого преступления; выполнение заказа за совершение такого преступления; его последствия; выполнение требований лиц, угрожающих насилием над потерпевшим или его близкими родственниками, ограничением прав, свобод или законных интересов этих лиц, повреждением или уничтожением их имущества, разглашением сведений, которые потерпевший или его близкие родственники желают сохранить в тайне; предоставление неправомерной выгоды должностному лицу; приобретение или получение, в том числе бесплатного, у физических и юридических лиц независимо от форм собственности на товар, который находится в свободном обращении или товара оборот которого ограничен или запрещен действующим законодательством; типичное поведение и внешний вид пострадавших от преступлений, имеющих тенденцию к повторению [1, с. 250-251].
Важным юридическим аспектом правового урегулирования контроля за совершением преступления с использованием инсценировки (негласного следственного эксперимента) является его чёткое разграничение с провокацией преступления. Ведь имитируя условия преступной деятельности, представители стороны обвинения могут склонить к совершению преступления лицо, которое ранее не планировало его совершать.
Проблема сущности провокации преступления, а также ее отграничения от контроля за его совершением является чрезвычайно актуальной на всём постсоветском пространстве. Так, по результатам исследований М. А. Погорецкого правоохранительные органы Украины систематически применяют провокации совершения преступлений, особенно коррупционных и связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В основном, это происходить в рамках контроля за совершением преступления (ст. 271 УПК Украины). При этом обращает на себя внимание и вызы- вает озабоченность то, что у 56 % опрошенных прокуроров, 65 % следователей и 72% оперативных работников считают целесообразным расширение возможностей применения провокации в правоохранительной деятельности [21, с. 33-43].
Основным содержанием такой провокации, на наш взгляд, являются действия по побуждению лица к совершению преступления, в то время как оно не проявляло никаких намерений его совершить. Такое подстрекательство может проявляться, как в попытках убедить человека с помощью логической аргументации (в.т.ч. с использованием ложной или искаженной информации), так и заставить совершить преступление путем угроз и подкупа. Нельзя исключать и специального воздействия на психику человека в результате, которого он перестаёт критически воспринимать информацию, в том числе под воздействием химических веществ и технических средств.
Правовое урегулирование контроля за совершением преступления в уголовном процессе (в том числе регламентации возможности имитации преступной деятельности и разграничение ёё с провокацией преступления) не решит в полном объёме проблемы его практического осуществления. Для успешной реализации органами досудебного расследования и оперативными подразделениями уголовнопроцессуальных норм, необходимо разработать научно обоснованные методические рекомендации. Поскольку действия по контролю за совершением преступления введены в уголовный процесс, выполнение указанной выше задачи следует возложить на криминалистику, одним из направлений которой является обеспечение следственных действий [22, с. 168-239]. Вместе с тем, разрабатывать вопросы контроля за совершением преступления в рамках досудебного расследования следует основываясь на достижениях теории оперативно-розыскной деятельности, где эти вопросы изучаются уже длительное время.
Выводы. Введение в уголовный процесс Республики Казахстан НСД расширило возможности органов досудебного рас- следования получать доказательства путём контроля за совершением преступления. В отличии от материалов оперативнорозыскной деятельности результаты НСД, составляющих содержание такого контроля имеют соответствующую процессуальную форму и проводятся как единый комплекс с открытыми следственными действиями. Это придаёт большей легитимности полученным доказательствам: их не надо легализировать, они и так являются легальными.
Однако процессуальная регламентация действий соответствующих контролю за совершением преступлений в УКП Республики Казахстан требует совершенствования. В частности целесообразно подробно урегулировать содержание контроля плекса мер по скрытой фиксации преступной деятельности лица или группы лиц в режиме реального времени, его (их) задержанию и проведению следственных действий по отрытой фиксации фактических данных о приготовлении и (или) покушении на преступление.
Законодательно следует установить и то, что в рамках контроля за совершением лицом (группой лиц) преступления может проводиться оперативный эксперимент – имитация действий, событий либо обстановки, которые соответствуют преступному замыслу этого лица (лиц) и (или) могут свидетельствовать о его выполнении. При этом следует регламентировать запрет провокации совершения преступления и дать чёткое определение действий, состав- за совершением преступления как ком- ляющих содержание провокации.
Список литературы Контроль за совершением преступления в уголовном процессе Республики Казахстан
- Грiбов М. Л. Законодавче регулювання контролю за вчиненням злочину // Порiвняльно-аналiтичне право. 2016 № 6. С. 248-251.
- Гинзбург А. Я. О так называемых «негласных следственных действиях» // Специализированный ежемесячный журнал «ЮРИСТ». Май. №5. 2013. URL: https://journal.zakon.kz/4568011-o-tak-nazyvaemykh-neglasnykh.html
- Медиев Р. А. К вопросу об определении «негласные следственные действия» по новому УПК Республики Казахстан. Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2015. № 1. С. 41-47.
- Астафьев Ю. В. Оперативно-розыскные элементы уголовного процесса. Вестник ВГУ. Серия: Право. 2017. №2. С. 232-242.
- Абдуллаева Н. Д. Оперативное внедрение в деятельности оперативних подразделений органов внутренних дел: дисс.. канд. юрид. наук: 12.00.09. Иркутск, 2007. 213 с.