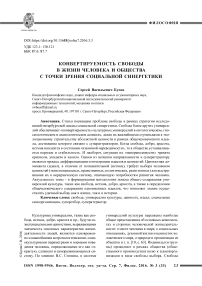Конвертируем ость свободы в жизни человека и общества с точки зрения социальной синергетики
Автор: Бусов Сергей Васильевич
Журнал: Logos et Praxis @logos-et-praxis
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 3 (33), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме свободы в рамках стратегии исследований петербургской школы социальной синергетики. Свобода более других универсалий обеспечивает «конвертируемость» культурных универсалий в онтологическом, гносеологическом и аксиологическом аспектах, делая их важнейшими ступеньками к эволюционному строительству абсолютной ценности в рамках общечеловеческого идеала, достижение которого связано с суператтрактором. Когда свобода, добро, красота, истина находятся в состоянии «взаимной переводимости», то в обществе устанавливается порядок и стабильность. И наоборот, ситуация их «непереводимости» чревата кризисом, упадком и хаосом. Одним из аспектов направленности к суператтрактору является процесс дифференциации и интеграции идеалов и ценностей. Ценностная доминанта (идеал), в отличие от познавательной (истина), требует выбора человеком ценностей (экзистенциальных, нравственных, политических, религиозных) для выстраивания их в иерархическую систему, отвечающую потребностям развития человека. Актуальность темы - в формировании методологии поиска общего содержания универсалий культуры, таких как свобода, истина, добро, красота, а также в определении общечеловеческого содержания одноименных идеалов, что позволяет людям осуществлять удачный выбор, как в жизни, так и в истории.
Свобода, универсалия культуры, ценность, идеал, социальная самоорганизация, суперотбор, суператтрактор
Короткий адрес: https://sciup.org/14974798
IDR: 14974798 | УДК: 123.1: | DOI: 10.15688/jvolsu7.2016.3.3
Текст научной статьи Конвертируем ость свободы в жизни человека и общества с точки зрения социальной синергетики
DOI:
Культурные универсалии, такие как свобода, истина, добро, красота и пр., будучи экзистенциальными ценностями, выражающими значимость основных характеристик жизнедеятельности людей, являются одновременно и важнейшими антропологическими, социокультурными параметрами и нормами поведения человека, определяющими его как открытую, сложную и саморазвивающуюся систему. По мнению В.С. Степина, в системе универсалий культуры выражены наиболее общие представления об основных компонентах и сторонах человеческой жизнедеятельности: о месте человека в мире, о социальных отношениях, духовной жизни и ценностях человеческого мира, о природе и организации ее объектов и т. п. [10, с. 63]. Индивиды (и группы) проявляют в рамках общества (общественного производства) волю к (само)орга-низации в виде свободы выбора. Свобода органически вписывается в диалектику устойчивости и изменчивости социума, ей близка природа «эволюции начальных условий», флуктуаций, которые интерпретируются как случайные отклонения от привычных стереотипов поведения и устоявшихся норм социальных отношений. По словам Ф. Ницше, свобода есть воля к ответственности, которая в виде организационной воли есть также воля к добру, истине, красоте и т. д. Наша задача показать, что социум как организация жизни людей есть также самоорганизация общественной и индивидуальной жизни, где ключевую роль играет свобода выбора. Субъект выбора (человек), ориентированный на тот или иной сегмент возможностей своего существования в мире, помимо проекта свободы, одновременно формирует также проекты добра, красоты, истины и т. д. Как будет показано ниже, такой способ конвертируемости универсалий необходим для выявления и закрепления общечеловеческого содержания ценностей в процессе их функционирования в обществе и передачи из поколения в поколение.
Петербургская школа социальной синергетики «успешно сформировала систему принципов, органичную и комплементарную системному ядру мировой классической философии» [3, c. 21], создала теоретический и методологический фундамент для описания, объяснения и решения широкого спектра социальных проблем, в особенности таких, как проблема свободы, глобализации, социальных кризисов, будущего человечества, смысла и цели мировой истории и т. д. Среди авторов названной школы, помимо тех, чьи работы указаны в сносках (В.П. Бранский [1; 2], С.Д. Пожарский [2], С.В. Бусов [3], М.Р. Зобова [3]), следует выделить И.Г. Микайлову и ее монографию «Идеалы и их роль в социокультурном воспроизводстве цивилизаций с позиций синергетической философии истории», вышедшую в издательстве «Алетейя» в 2016 году. Деятельность представителей школы, в особенности ее лидера В.П. Бранского, позволяет существовать философии истории (равно как и социальной философии) не «по остаточному принципу», как пишет В.Н. Сыров, то есть «...играть роль теории в тех сферах и до тех пор, пока туда не добрались социальные науки» [11, c. 23], а полноценно схва- тывать и целостно описывать сложный предмет (общество, историю) в разных аспектах его существования.
В декабре 2000 г. в интервью журналу «Эксперт» И. Пригожин сформулировал знаменитый вопрос: какова перспектива свободы в новом, становящимся мире «сетей» и глобализации, а именно, к чему движется человечество – к большему порядку или большему хаосу? «Я убежден, что мы приближаемся сейчас к такой точке бифуркации, после прохождения которой человечество окажется на одной из нескольких вероятных траекторий. Главный фактор – информационно-технологический бум. Мы подходим к созданию “сетевого общества”, в котором люди будут связаны между собой так, как никогда ранее. <…> С ростом народонаселения планеты повышается вероятность нелинейных микрофлуктуаций, связанных с индивидуальной свободой выбора, поскольку увеличивается численность игроков. С другой стороны, поскольку люди становятся все более объединены сетями, может появиться и обратный эффект: императивы объединенного коллектива подавят индивидуальную свободу выбора» [8]. Речь идет о двух противоположных тенденциях в развитии человечества: рост порядка (унификация, тоталитаризм) и рост свободы (индивидуализация, анархизм). Парадокс в том, что обе тенденции сегодня проявляются одновременно. «Очевидно, – пишет по этому поводу В.П. Бранский, – что, обсуждая указанное противоречие, Пригожин вплотную подходит к понятию суператтрактора. Но он не формулирует его по той, по-видимому, причине, что его физическая синергетика не требует этого понятия. А не требует она его потому, что ограничивается только отбором и не затрагивает механизм суперотбора. Этот механизм специфичен, видимо, именно для социальной синергетики» [2, c. 332]. Существует предел сложности социокультурных систем, который получил в концепции В.П. Бран-ского название суператтрактора (глобального аттрактора). Такой аттрактор представляет собой предел художественного и технического развития человечества, а также экономической, политической, этической, мировоззренческой и других сторон общественной жизни. Существование суператтрактора при- дает объективный смысл социокультурной эволюции, который заключается в формировании сверхчеловека и сверхчеловечества: «Подобный синтез предполагает превращение человека с его относительной свободой и относительной моралью в сверхчеловека с его абсолютной свободой и абсолютной моралью соответственно, человечества – в сверхчеловечество, обладающее чудовищной технической и художественной мощью» [1, c. 122]. Движение к суператтрактору осуществляется посредством отбора – сущностного механизма социальной самоорганизации. Каждая актуально существующая структура содержит в себе набор «возможных диссипативных структур»; в точке бифуркации происходит отбор одной возможности из тезауруса возможностей, сформированного бифуркацией. Роль главного фактора механизма отбора, осуществляющего такой «выбор» (у В.П. Бранс-кого он получил название детектора), играет «внутреннее взаимодействие элементов социальной системы», в результате которого отбирается и реализуется одна из множества эволюционных возможностей. Детектор, в свою очередь, руководствуется селектором, или принципом максимальной устойчивости. Автор добавляет, что «кроме отбора, существует еще суперотбор, то есть отбор самих факторов отбора» [1, c. 121]. Благодаря действию суперотбора (извлечению уроков из истории, или иерархическому обучению на собственных ошибках) социальная самоорганизация в своем движении к суператтрактору приобретает асимптотический характер, при этом возникает возможность обогнать ускоренное нарастание глобальных проблем. Выбор возможности всегда хотя бы «на шаг» опережать нарастание кризисов оказывается главным содержанием прогрессивной направленности социума.
В этой связи следует иначе взглянуть на различие позиций А.П. Назаретяна и В.П. Бранского. Отождествление глобального аттрактора с конечной целью истории, что делает А.П. Назаретян, ошибочно. «Если мир асимптотически приближается к конечной цели (Суператтрактор Бранского), никогда ее не достигая, то миллиард лет назад и миллиард лет спустя он одинаково близок к бесконечно далекому конечному состоянию» [7, c. 221]. Если же мыслить в терминах нашей школы, то смысл истории человечества сводится к ее направленности на суператтрактор, который никоим образом не является целью мировой истории, поскольку не является конечной причиной эволюции социума, хотя определенным образом устанавливает «границы» возможного в его развитии. Различие позиций все же не снимает сходства точек зрения В.П. Бранского и А.П. Назаретяна на сущность социального прогресса, где решается проблема бесконечного оттягивания неизбежной гибели человеческого разума. В какой форме реализуется это «бесконечное оттягивание» – в виде ли влияния суператтрактора (В.П. Бранский) или в виде закона техно-гуманитарного баланса (А.П. Назаретян), – это уже тот уровень различий, который требует конкретно-научного анализа проблемы. По мнению В.П. Бранского, идея суператтрактора имеет достаточные основания не только в аспекте идеологическом (надежда на «светлое будущее»), но и в онтологическом (то есть суператтрактор не исключает многообразия возможных путей развития человечества). Наличие глубоких смыслов в этом понятии является следствием его реального существования, которое есть стохастический результат взаимодействия множества индивидуальных «свобод»; без них суператтрактор вообще не может сформироваться.
Как уже говорилось, одним из аспектов направленности к суператтрактору является процесс дифференциации и интеграции идеалов и ценностей. Ценностная доминанта, в отличие от познавательной (где цель – истина), требует выбора человеком ценностей – экзистенциальных, нравственных, политических, религиозных – для выстраивания их в иерархическую систему, которая отвечала бы потребностям развития человека. При этом идеалов может быть множество, тогда как истина всегда одна. Известно, что идеал отличается от истины зависимостью от субъекта, от его желаний. Перед нами определенного рода дилемма, где, с одной стороны, взгляды, идущие еще от Аристотеля, согласно которым истина предстает в виде тенденции все большего соответствия знания объекту. С другой стороны, функция идеала – выражать ценностные ориентации субъекта. Вместе с тем истина не может полностью исключить из своего содержания свойства самого субъекта, ибо перестанет быть продуктом человеческого познания. Таким образом, истина и идеал частично совпадают по форме и содержанию, поскольку и то, и другое есть знание; они напоминают пересекающиеся круги Эйлера, но их различие все же существенно. Формальное совпадение истины и идеала осуществляется по линии субъекта (один и тот же субъект), но есть существенное несовпадение по линии объекта (содержания): образ шара может быть как идеализированным, так и неидеализированным, шар может быть реальным или идеальным. К тому же истина об объекте одна единая, а идеалов данного объекта множество. Выступая идеализацией всеобщности человеческой деятельности, осуществляющейся в определенном культурном пространстве и времени, истина «находит свое воплощение только в реальном поведении человека, обладающего той или иной степенью свободы» [9, c. 477]. Однако, по нашему мнению, приведенная цитата может провоцировать смешение истины и идеала. Если ориентироваться на знание как на «коммуникативное ядро» человеческой активности, то речь пойдет об идеале. Наоборот, ориентация на знание, содержащее момент «совпадения с объектом», есть ориентация на истину. Вместе с тем, если бы знание ориентировалось только на истину, его ценность для человека была бы ничтожна. Этот парадокс разрешим путем отнесения знания к ценности, которая не может существовать отдельно от человека, поскольку ценность знания лишь тогда значима, когда она связана с человеком, с его потребностью в истине и «оценивается» через соотнесение с идеалом.
Такие культурно-исторические универсальные нормы, как свобода, истинное знание, добро, справедливость, любовь, красота, органично вплетены в процесс культурной эволюции. В них присутствует как момент устойчивого содержания, присущего человеческой природе вообще, так и момент изменчивого, текучего. В «Философии права» Гегель определяет свободу как субстанцию, существующую «как действительность и необходимость и как субъективная воля – это идея в ее в себе и для себя всеобщем существовании, нрав- ственность» [4, c. 93]. Очевидно, что свобода для Гегеля выступает субстанцией «объективного духа», посредством которой осуществляется переход из сферы права (абстрактная свобода) в сферу морали (ответственность) и далее – в сферу нравственности (единство свободы и ответственности). Так, семья (семейное право) с присущим ей содержанием любви, чувства и абстрактного добра переходит в гражданское общество (гражданское право), где добро «оконкретилось» до уровня отдельного индивида, и далее – в государство (государственное право), которое «выше других ступеней: это свобода в ее самом конкретном образе, подчиненная лишь высшей абсолютной истине мирового духа» [4, с. 95]. Свобода как познанная необходимость и в дальнейшем служила и служит (чаще, конечно, в рамках рационалистической философии) основанием логической прозрачности мироустройства.
Мы попытались определить возможность обратимости (конвертируемости) свободы в мире социальных ценностей, определить, как универсалии добра, красоты, истины, справедливости и т. п. реально соотносятся со свободой, обмениваясь с ней своим глубинным содержанием, и, конечно, внутренне содержат в себе свободу как их всеобщее и «единое».
Ю.М. Лотман отмечал, что семиосфера (сфера культурных значений и смыслов. – С. Б.) характеризуется неоднородностью, она состоит из множества компонентов («языков»), которые «относятся друг к другу в спектре от полной взаимной переводимости до столь же полной взаимной непереводимости» [6, c. 252]. Проблема поведенческой согласованности (конвертируемости смыслов) обозначена Ю.М. Лотманом довольно точно. В синергетике согласованность (кооперативность, когерентность) трактуется как порядок, а рассогласованность – как хаос. Очевидно, когда свобода, добро, красота, истина находятся в состоянии «взаимной переводимос-ти», то в обществе устанавливается порядок и стабильность. И наоборот, ситуация их «непереводимости» чревата кризисом, упадком, хаосом. «В основе прогресса лежит консенсус, – пишут Т.И. Игнатенко и Е.Ю. Леонтьева, – социальная солидарность... Можно пред- положить, что если этого нет, то возникает так называемый mortal-хаос» [5, c. 36].
Свобода стала рубежной ценностью, определившей переход от традиционного общества к модерновому, индустриальному (К. Маркс, М. Вебер, Э. Дюркгейм), а затем и к современному, постиндустриальному (Д. Белл, О. Тоффлер, Ю. Хабермас). Впрочем, при определенных условиях такой рубежной системообразующей ценностью являются также добро, красота, истина. Свободу, красоту и т. д. можно объяснить и выразить через добро, в свою очередь, через красоту можно выразить любую другую ценность. Видимо, подобные плюралистические (конвертируемые, обратимые) ценностные отношения имеют не только гносеологическое или аксиологическое, но и онтологическое, социологическое и антропологическое основание.
Попытаемся иллюстративно выразить ценность добра (блага) через свободу. Добро, включающее широкий спектр этических ценностей, находит свое выражение в свободном стремлении людей к преодолению социальной дисгармонии, к достижению взаимного согласия, к разрешению противоречий между индивидуальным и коллективным бытием (любовь, милосердие, терпимость, сострадание, долг и пр.). Оно является обоснованием права на индивидуальный свободный выбор, продиктованный внутренней потребностью (как материальной, так и духовной). Но что произойдет, если лишить содержание добра признаков свободы? Оно тотчас превращается в зло. Человек, лишенный возможности выбора путей удовлетворения потребностей, лишается также возможности обмена, замыкается, изолируется, не обновляется, становится в тягость себе и другим, теряет способности, деградирует.
Аналогично, ценность знания – через свободу – заключается в том, что свобода служит основой осознанной, ответственной, рационально организованной коллективной и индивидуальной деятельности; знание свободно ориентируется на поиски нового и, в силу этого, содержит требование совершенствования общества и человека. Если знание, претендующее на истину, лишается признаков свободного его достижения и постижения, то истина обращается в ложь, поиск истины су- живается: чем меньше вариантов (интерпретаций), тем меньше полнота истины. Непосредственное или опосредованное преобразование объекта – вот, пожалуй, единственный путь постижения истины человеком. Но этот путь закрыт, если нет свободы преобразований, если, например, человек не учитывает творческую роль хаоса.
Ценность красоты – в свободном стремлении людей созерцать, выражать свое эмоциональное отношение к миру, к его гармонии, целостности, ритму посредством художественного кодирования в образах, а затем и в произведениях, выставленных на суд зрителей. Если лишить художника свободы самовыражения, возможности свободного поиска формы, более всего отвечающего эстетическому идеалу, то прежняя красота скоро станет для него безобразной, а новой в условиях несвободы он не создаст.
Таким образом, конвертируемость культурных универсалий – это важный аспект свободной творческой деятельности людей. Вместе с тем свобода более других универсалий определяет человека (и общество) как открытую, саморазвивающуюся систему, обменивающуюся со средой веществом, энергией и информацией. Но поскольку мы говорили об универсалиях, не обозначая той формы, в которой эти универсалии конвертируются, то оставалось неясным, как процесс движения к суператтрактору абсорбирует общечеловеческое содержание из потока ценностных ориентаций людей на разных исторических временах и уровнях социальных отношений. Ответ напрашивается сам собой: адекватной формой существования культурных универсалий, помимо нормы (как ценности), является идеал, со всем присущим ему функциональным богатством. Свобода предстает как норма (ценность) и идеал, то есть имеет место соотношение сущего и должного. То же самое относится и к другим универсалиям культуры. И все же универсалия свободы занимает особое место, у нее особая роль в этом историческом «круговороте ценностей»; она действительно является своего рода всеобщим эквивалентом в мире культурных ценностей. Она является важнейшим элементом суперотбора как отбора ценностей и идеалов. Это означает, что из множества «относительных»
идеалов посредством свободы выбора, присущей людям во все времена, постепенно формируется общечеловеческий, «абсолютный» идеал (работает закон дифференциации и интеграции идеалов и ценностей). Происходит как бы «вышелушивание» твердого ядра из хрупкой скорлупы. По сути, «суператтрактор и есть не что иное, как результат реализации общечеловеческого идеала» [1, c. 124]. Свобода более других обеспечивает «оборачиваемость» универсалий в онтологическом, гносеологическом и аксиологическом аспектах и делает их важнейшими ступеньками к эволюционному строительству абсолютной ценности в рамках общечеловеческого идеала, достижение которого связано с суператтрактором.
Список литературы Конвертируем ость свободы в жизни человека и общества с точки зрения социальной синергетики
- Бранский, В. П. Социальная синергетика как постмодернистская философия истории/В. П. Бранский//Общественные науки и современность. -1999. -№ 6. -C. 117-127.
- Бранский, В. П. Глобализация и синергетический историзм. Синергетическая теория глобализации/В. П. Бранский, С. Д. Пожарский. -СПб.: Политехника, 2004. -400 c.
- Бусов, С. В. Социальная синергетика -прорыв в будущее/С. В. Бусов, М. Р. Зобова//Научное мнение: науч. журн. -2014. -№ 4. -C. 18-24.
- Гегель, Г. В. Ф. Философия права/Г. В. Ф. Гегель. -М.: Мысль, 1990. -526 с.
- Игнатенко, Т. И. Модусы двуликого хаоса: социально-психологический анализ/Т. И. Игнатенко, Е. Ю. Леонтьева//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. -2010. -№ 1 (11). -С. 34-39.
- Лотман, Ю. М. Семиосфера/Ю. М. Лотман. -СПб.: Искусство-СПб., 2000. -704 с.
- Назаретян, А. П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории: Синергетика, психология и футурология/А. П. Назаретян. -М.: ПЕР СЭ, 2001. -239 с.
- Пригожин, И. Творящая натура. Детерминизма нет ни в обществе, ни в природе/И. Пригожин//Эксперт. -2000. -№ 48 (260). -С. 72-73.
- Сергейчик, Е. М. Философия истории/Е. М. Сергейчик. -СПб.: Лань, 2002. -608 с.
- Степин, В. С. Цивилизация и культура/В. С. Степин. -СПб.: СПбГУП, 2011. -408 с.
- Сыров, В. Н. Как возможна современная социальная философия/В. Н. Сыров//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7, Философия. Социология и социальные технологии. -2011. -№ 2 (14). -С. 20-27.