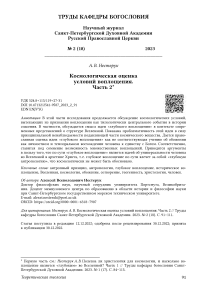Космологическая оценка условий воплощения. Часть 2
Автор: Нестерук Алексей Всеволодович
Журнал: Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии @theology-spbda
Рубрика: Теоретическая теология
Статья в выпуске: 2 (18), 2023 года.
Бесплатный доступ
В этой части исследования продолжается обсуждение космологических условий, вытекающих из признания воплощения как типологически центрального события в истории спасения. В частности, обсуждается смысл идеи «глубокого воплощения» в контексте современных представлений о структуре Вселенной. Показана проблематичность этой идеи в силу принципиальной ненаблюдаемости подавляющей части космического вещества. Дается православная оценка идеи «глубокого воплощения» как не соответствующая учению об обожении как личностном и темпоральном восхождении человека к единству с Богом. Соответственно, ставится под сомнение возможность множественных воплощений. Приводятся аргументы в пользу того, что по сути «глубокое воплощение» является идеей об универсальности человека во Вселенной в архетипе Христа, т. е. глубокое воплощение по сути влечет за собой «глубокую антропологию», что космологически не может быть обосновано.
Антропный принцип, антропология, глубокое воплощение, историческое воплощение, вселенная, космология, обожение, сотворение, теогенность, христология, человек
Короткий адрес: https://sciup.org/140299856
IDR: 140299856 | УДК: 524.8+113/119+27-31 | DOI: 10.47132/2541-9587_2023_2_91
Текст научной статьи Космологическая оценка условий воплощения. Часть 2
About the author: Alexei Vsevolodovich Nesteruk
Doctor of Philosophy; Visiting Research Lecturer at the University of Portsmouth, UK; Associate Professor at the Inter- University Centre on Education in History and Philosophy of Science of the State Marine Technical University, St Petersburg.
The article was submitted 12.12.2022; approved after reviewing 30.12.2022; accepted for publication 30.12.2022.
Космологическая оценка условий воплощения
Для того, чтобы осуществить переход от богословской интерпретации смысла воплощения к тому, что за этим подразумевается космологически, разумно посмотреть на идею воплощения с точки зрения того, как она имплицитно присутствует в концепции сотворения мира. Еще во времена ранней Церкви такие ее отцы как Ориген и св. Афанасий Александрийский обсуждали определенный топологический парадокс, возникающий, если интерпретировать воплощение как сошествие Бога в мир. С одной стороны, Логос воспринял человеческую плоть и существовал в условиях пространства и времени, а с другой стороны, будучи Богом, он оставался одесную Отца и, таким образом, присутствовал во всей Вселенной как ее Творец. Такая топологическая связь между планетой Земля и всей Вселенной делает Вселенную очень специфической несмотря на ее тварную случайность (свободную обусловленность Богом). Ипостась Логоса определенным образом балансирует двойственный аспект Вселенной — ее внутреннюю форму, в какой Вселенная предстает воплощенному в плоти Логосу-Христу и человеку вообще, и ее внешнюю форму, в какой Вселенная воипостазирована Логосом как ее творцом. Действительно, пространство — время, воспринимаемое человеком изнутри тварного мира, может быть интерпретировано человеком как «внешняя» форма отношения Вселенной к трансцендентному Богу. Эта внешняя форма, однако, не может быть осознана без ее «внутренней» составляющей, т. е. своего рода «границы», которая может быть гипотетически предположена как нечто «внутреннее» по отношению к Богу-творцу.
Здесь естественно возникает вопрос о том, как «внешняя» (мировая) форма пространства-времени поддерживает отношение с божественным «окружением» через его «внутреннюю» (по отношению к творцу) форму? Вопрос действительно сугубо спекулятивный, поставленный в естественной установке сознания и, по сути, отражающий онтическую формулировку парадокса субъективности, упомянутого выше. И здесь, естественно, по той же аналогии с парадоксом субъективности, можно использовать представление об ипо-стасном единении между божественной и человеческой природой в Христе. Действительно, можно предположить, что связь между пространством и временем во Вселенной и их нетварным основанием тоже осуществляется Богом ипостасно в процессе его «икономии» по отношению к миру. Исполнение этой «икономии» имело место в вечном предвосхищении воплощения, «тогда, когда» связь между человечеством Христа (в пространстве) и Его божественностью как Логосом (за пределами пространства) была установлена в «начале» мира. Таким образом, Вселенная в ее пространственно-временной протяженности манифестирует свою христологически специфическую во-ипостасность в Логосе. Христос, будучи Богом и человеком, испытывает двойственность по отношению к пространственности Вселенной. С одной стороны, как человек, Он ощущает Вселенную как протяженную в пространстве и времени, так что Его тело позиционировано во Вселенной как конечное материальное образование среди многих других. С другой стороны, будучи Логосом, вся Вселенная «обозревается» Им как непротяженное целое, включающее в себя все частные аспекты вселенной. Логос-Христос, говоря метафорически, видит Вселенную «мгновенно» как протяженность, свернутую в точку, как нечто иное, происходящее от Божественной Любви. Протяженный и неизмеримый компендиум вещей, чье единство не может быть осознано в естественной способности человека, может быть только ощущен архетипически как обозреваемый Божественным оком. Для самого Христа соединение двух составляющих парадокса воплощения не представляло проблемы, поскольку, будучи Логосом-Творцом, Он сам был и источником, и субъектом этого парадокса, т. е. конечным основанием его фактичности. С одной стороны, каждый уголок тварной Вселенной был воипостазирован Логосом, с другой стороны, пространство Вселенной должно быть способным поддержать условия воплощения Христа во плоти. Используя предыдущую терминологию, «внешняя» (по отношению к Творцу) форма пространства Вселенной должна быть согласована с его «внутренней» формой (связанной с творческими действиями Логоса) таким образом, что «внешняя» структура пространства, как конститутивный элемент любого физического существования, допускала возникновение биологических форм, человеческой жизни и, в конечном итоге, тела воплощенного Христа. Универсальная во-ипостасность Вселенной в Логосе (просто в силу сотворенности Им) должна сопровождаться специфической необходимостью пришествия Христа в теле, вмонтированной в сотворение как его мотив. Тогда можно предположить, что пространственная структура вселенной должна быть согласованной с физическими условиями возможности возникновения тела Христа.
Как было выражено известным шотландским богословом Томасом Торрансом, «мир создан открытым Богу в его пересечении с осью сотворение-воплощение. Его пространственно-временные структуры так организованы по отношению к Богу, что мы, находясь внутри них, можем восходить в мысли в них и через них к их трансцендентному основанию в самом Боге. Иисус Христос представляет собой тот действительный центр в пространстве и времени, где это может быть сделано»1. «Отношение, установленное между Богом и человеком в Иисусе Христе, конституирует Его как место во всем пространстве и времени, где Бог встречается с человеком в подлинности его человеческого существования, и человек встречается с Богом и познает Его в Его собственном божественном Бытии»2. Торранс идет дальше, предлагая, что сама пространственно-временная протяженность Вселенной как целого является реляционной по отношению к во-ипостасному присутствию Логоса во Вселенной и Его ипостасного присутствия во Христе (также как в общей теории относительности структура пространства определяется материальными объектами). Он пишет: «Взаимодействие Бога с нами в пространстве и времени этого мира как бы определяет систему координат, состоящую из двух горизонтальных измерений, то есть пространства и времени, и одного вертикального измерения, в котором и заключено отношение к Богу через Его Духа. Все это образует богословское поле связей в Иисусе Христе и через него, о котором нельзя думать, как если бы он встраивался в структуры пространства и времени, образованные другими действующими силами. Ноборот, о них следует мыслить как о таких структурах, которые Иисус Христос организует вокруг себя и трансцендентно соотносит их с Богом в себе и через себя (курсив наш. — А. Н.)»3.
Если воплощение рассматривается в логике сотворения Вселенной (формируя тем самым богословское поле связей между миром и Богом), то сотворение Вселенной предстает не как случайно-обусловленное, но как подчиненное необходимым условия того, чтобы воплощение было возможным4. Однако эти необходимые условия не исчерпывают все возможные пути взаимодействия между Богом и миром, оставляя «внутреннюю границу» пространства Вселенной подвижной и открытой для Божественного присутствия в мире.
Обсудим теперь детальнее, какие необходимые условия должны быть выполнены для того, чтобы воплощение было возможным. Коль скоро воплощение произошло в рубриках пространства и времени, т. е. трансцендентный Бог сошел в физическую Вселенную для того, чтобы воспринять человеческую плоть, тогда во Вселенной должна быть такая плоть, т. е. в тварной Вселенной в ее целостности должны быть выполнены необходимые условия для того, чтобы возник в земной плоти разумный человек. Такое требование влечет за собой условие, уже на основании физической космологии, чтобы возраст Вселенной был не менее десяти миллиардов лет для того, чтобы в ней сформировались атомы, из которых состоят человеческие тела, и, тем самым, для возможности воплощения5. Соответственно, необходимые условия для воплощения присутствуют скрыто в обращенной истории Вселенной6.
Говоря о физико- биологической плоти, имеется в виду не только плоть Иисуса Христа, но также плоть всего человеческого рода и тех существ (а также неорганических элементов), которые Ему единосущны в земной биосфере. Отсюда следует, что Вселенная в целостности ее пространственных и временных измерений, в каждой ее детали и в каждом случайном объекте должна содержать следы исходного намерения Бога создать не просто Вселенную, а очень специальную Вселенную, в которой человеческие тела и воплощение были бы возможны. В этом смыле воплощение действительно «глубокое», ибо оно типологически затрагивает все структурные уровни Вселенной, преодпределя-ющие ее эволюцию и подготавливающую условия для возникновения жизни на нашей планете. Типологичность воплощения при этом не требует, чтобы все части Вселенной были единосущны с плотью Христа (или человека).
Необходимые условия для воплощения затрагивают только видимую Вселенную, т. е. 4% от всего ее вещества (остальные 96% невидимой Вселенной, а именно скрытая масса (Dark Matter (DM)) и темная знергия (Dark Energy (DE)), не единосущны веществу видимой Вселенной и, следовательно, любым живым формам на Земле). Это означает, что логика связывания необходимых условий для воплощения с ее сотворением применима лишь к 4% наблюдаемой Вселенной, т. е. к тем формам вещества, с которым человек может взаимодействовать и, следовательно, понимать его7. Конечно, можно рассуждать о 96% невидимого вещества во Вселенной (или о других мирах в модели мультивселенной) как привлеченных в космологический дискурс на эйдетическом, трансцендентальном уровне для того, чтобы построить согласованную теоретическую модель Вселенной. В этом случае, если 96% не-единосущной материи Вселенной теоретически расматривается в некоем единении с видимым физическим и биологическим веществом Вселенной, связь между воплощением и всей тварной Вселенной становится не более чем человеческой конструкцией, пытающейся интеллектуально «объединить» все структурные уровни Вселенной. Действительно, будучи созданным в образе Ипостаси Логоса-Христа, осуществившего единение Божественного и тварного, человек имитирует его, артикулируя сродство различных частей этого тварного мира. И именно поэтому таковое «объединение» различных частей мира незримо содержит в самом себе образ Ипостаси Логоса, которым мир сотворен.
Однако присутствие этого образа в мироздании не влечет за собой того, что Ипостась Логоса была воплощена во всех вещах мира в таком же модусе, как это имело место в Исусе из Назарета. Во-ипостасность всей Вселенной в Логосе не влечет за собой Его воплощения или Его овеществления во всех ее частях. Если не проводить такого различия, возникают серьезные богословские проблемы, о которых мы упоминали выше.
В то время как предположение идеи «глубокого воплощения» о том, что порядок человеческой истории на Земле буквально связан со всеми уровнями космического порядка, не может быть онтологически адекватным (поскольку физически Вселенная фрагментирована, она безмерно велика и не ограничена ее видимой частью, состоя из множества причинно несвязанных областей, о смысле которых можно лишь спекулировать, она пуста и бесплодна в большей части ее пространства и времени), сама идея единства всего творения (по сути предположенная в идее «глубокого воплощения») представляет собой интеллектуальный синтез Вселенной, осуществление которого доступно только человеку и проекция которого на онтологию Вселенной человеком является следствием того, что человек имитирует в себе способность Логоса-Творца, т. е. позиционирует себя со-творцом Вселенной как ее артикулирование (дальнейшее воипостазирование уже в своей тварной ипостаси). Но, при всем при этом такая артикуляция Вселенной ограничена условиями человеческого единосущия только с 4% ее вещества и поэтому не может быть ответственно перенесена на все творение.
В этом смысле неявное утверждение сторонников идеи «глубокого воплощения» о том, что историческое воплощение можно как-то перенести, как чисто человеческую способность ипостасного единения с Богом во Христе, на фундаментально не-человеческие формы материи, представляется по крайней мере странным. В таком утверждении не учитывается фундаментальное различие между человеком как ипостасным разумным существом и всем остальным миром. Забвение этого базового различия является дефектом любой теории о месте человека во Вселенной, ибо только благодаря разумной способности человека существует сама возможность выразить смысл специфики этого места. Человек остается центром раскрытия и манифестации Вселенной и именно поэтому любая попытка «поместить» (вывести) его ипостасное сознание в некую предлежащую субстанцию ограничена, ибо парадоксальна. Парадоксальность связана с тем, что будучи центром раскрытия и манифестации, этот центр жестко связян с материальным миром, т. е. антропология имманентно входит в структуру раскрытия и манифестации Вселенной. Другими словами, раскрытие и манифестация осуществляются лишь в контексте мира как такового. Т. е. содержание мира, определенное как коррелят сознания, зависит от этого контекста. Иначе говоря, человек остается центром раскрытия и манифестации Вселенной в конкретном мировом контексте, так что эта двойственная онтологическая структура мира является по сути случайно-фактической, фиксирующей в конкретных физических и эпистемологических ограничениях суть человеческого состояния, и именно богословие пытается зафиксировать эту фактичность через воплощение.
Итак, именно человек (а не частицы и не животные) выступает ипостасью Вселенной, выражая ее присутствие (т. е. раскрывая и манифестируя ее) с помощью своего качества Божественного образа. Именно в этом смысле идея
«глубокого воплощения» выдвинута человеком как продолжение его бесконечной задачи (поставленной человеку Богом) по преодолению моральных (не онтологических) разделений между различными частями творения, приводя таким образом их к единству с Богом, имитируя ипостасное единение во Христе. Этим человек как бы берет на себя ответственность за все творение, и его богословское обоснование происходит из следования по пути Христа, приносящего весь тварный мир к божественному престолу в его воскресении и восхождении. Но при этом любое онтологическое утверждение тех, кто пытается сделать сравнимым присутствие Логоса-Христа во плоти Иисуса из Назарета с Его же присутствием во всех остальных живых существах или даже во всем тварном мире, представляет собой другой уровень якобы нейтрализованного антропоцентризма, приписывающего тварным сущностям такие свойства их сопричастия Богу, которые превышают их естественную способность.
Теперь, если мы смиримся с тем, что условия воплощения могут быть соотнесены только с наблюдаемыми 4% вещества во Вселенной, идея о том, что принцип воплощения может быть применим ко всем уровням Вселенной, может быть подвергнута дальнейшему критическому анализу. Последний основан на тонком различии между необходимыми и достаточными условиями возможности исторического воплощения. Для того, чтобы прояснить то, о чем здесь идет речь, рассмотрим для начала феномен биологической жизни вообще. Если даже необходимые условия для существования жизни выполнены на Земле и на других экзопланетах, нет никаких прямолинейных аргументов в пользу того, что жизнь в действительности появилась. Действительно, необходимые физические условия на этой планете не влекут за собой автоматически появления жизненных форм, например клетки. Биология на нынешней стадии развития не способна создать живую клетку из неорганической материи. Эволюция оказывается настолько сложной и точно-настроенной на баланс множества физических факторов в природе, что ученые сомневаются в том, что если бы природа на Земле вынуждена бы была начать свое развитие снова, эволюция произошла бы вообще, а если бы и произошла, то ее результат вряд ли был таким же, каким мы наблюдаем его сейчас. Как показывают исследования в сфере астробиологии, существование экзопланет с аналогичными условиями не гарантирует фактического существования жизни. Современная наука вообще плохо понимает механизмы, запустившие процесс жизни на Земле, т. е. она не знает ничего о достаточных условиях для того, чтобы возникла жизнь, в частности жизнь Homo Sapiens (приводящая в конечном итоге к возможности воплощения). Достаточные условия для существования жизни и, следовательно, для возможности воплощения не являются элементом причинной цепочки природных событий, и любая попытка уравнять необходимые условия с достаточными (что неявно предполагается в идее «глубокого воплощения»8), помещает догмат о воплощении в ранг теорий имманентного присутствия Бога в мире, рискуя превратить представление об историческом воплощении в новую метафизическую доктрину. Во-ипоста-сное сопричастие плоти всех биологических форм и даже квантовых частиц Логосу-Творцу (как необходимое условие существования человека и, следовательно, воплощения) не следует смешивать с воипостазированием того же Логоса в плоти Иисуса Христа (т. е. с историческим событием воплощения как реализацией достаточных условий его возможности). Как мы уже упоминали выше, именно здесь и лежит фундаментальное различие между присутствием Логоса во всем творении и его присутствием в воплощенном Христе.
Непознаваемость достаточных условий для возможности воплощения в пространстве-времени9 указывает на то, что воплощение как откровение не является естественным процессом как бы приготовленным через череду теофаний в истории человека на Земле, а является учреждающим событием христианской истории, не предопределенным материальными законами и мировыми необходимостями. Выражаясь философски, воплощение не имеет метафизического контекста и основания (именно поэтому оно было «безумием для эллинов» (1 Кор 1:23)). Именно постольку, поскольку воплощение обладает событийной феноменальностью, достаточные условия, для того чтобы это событие произошло, не принадлежат той области, в которой действуют его необходимые условия (подразумевающие физическую причинность)10. Событийная фактичность воплощения помещает его в класс тех явлений, в столкновении с которыми человек испытывает перенасыщение интуиции, которое, как следствие, порождает нескончаемую герменевтику в попытке выразить его смысл11.
В свете сказанного на идею «глубокого воплощения» можно посмотреть как на вносящую вклад в такое воипостазирование человеком своего собственного присутствия во Вселенной (близкого к земному физическому и биологическому миру), которое расширяет смысл исторического воплощения Логоса-Христа в человеческой плоти в отношении всего, что единосущно этой плоти и нуждается в спасении, тем самым перенося достаточные условия воплощения на всю Вселенную. Однако такой эпистемологический анти-антропоцентризм, лишая воплощение его смысла как исключительно связанного с человеком и тем самым пренебрегая уникальностью достаточных условий, по прежнему остается антропоцентричным не только в силу того, что он провозглашен изнутри специфического воплощенного сознания в архетипе воплощенного Логоса-Христа, но также в силу того, что этот анти-антропоцентризм провозглашен изнутри человеческого состояния, не знающего мотивов достаточных условий своей фактичности, влекущего за собой непознаваемость анти-антропоцентрических мотивов идеи «глубокого воплощения», т. е. непознаваемости мотивов того, почему достаточные условия исторического воплощения возведены в ранг необходимых. Другими словами, производящая как бы умаление центральности человека апелляция к «глубокому воплощению», приводит к обратному эффекту, т. к. последняя воспроизводит антропоцентризм в еще большей степени, перенося человеческое восприятие своих собственных оснований (в архетипе воплощенного Христа) на всю физическую Вселенную. Несмотря на то, что апелляция к анти-антропоцентризму происходит исходя из этических соображений на основе симпатии по отношению ко всему остальному органическому миру, подтвержденной теориями эволюции и экологическими проблемами, приложение моральных ограничителей по отношению к другим неземным существам и силам кажется философски необоснованным, в особенности, что касается тех частей тварного мира, которые не имеют прямого отношения к миру человека. Богословски, анти-антропоцентристская тенденция в мысли о «глубоком воплощении» может быть понята как «соединение» моральных разделений в творении, когда человек выступает в роли патристически понимаемого макроантропоса.
Воплощение как метафизически невозможное событие в основании христианского богословия
Наиболее драматической претензией сторонников идеи «глубокого воплощения» является, по сути, утверждение о том, что событие исторического воплощения должно каким-то образом обеспечивать достаточность (не просто необходимость!) условий обретения Логосом телесности в некоторых частях мира (что приводит к известной проблеме множественных воплощений в контексте поиска внеземного разума (программа SETI)). Здесь естественно возникает философский вопрос: может ли случайное (contingent) событие воплощения на Земле обладать неким сверх-онтологическим статусом, требующим не только выполнения необходимых условий для того, чтобы оно могло произойти, но, по сути, расширяющим в космологическое прошлое сферу его эффективной действенности на уровне достаточных условий на все не-человеческие структурные элементы Вселенной? Действуют ли фактически достаточные условия исторического воплощения в случайном месте пространства и времени не только как наделяющие Вселенную конкретным будущим в свете спасения, но также ретроспективно изменяют или «предопределяют» прошлое Вселенной? Говоря метафорически, не может ли быть так, что сами детали сотворения мира уже приспособлены к историческому воплощению в нехронологическом порядке, не причинно-временной последовательности, так что достаточно парадоксальное евангельское описание заклания Агнца «от сотворения мира» (Откр 13:8) в конечном итоге означает, что все творение подчинено этому событию в транс-временном смысле. Здесь возникает как бы двойная необходимость: необходимость физических законов для возможности воплощения, а также необходимость как неизбежность и обязательность того, что оно произойдет. Нетрудно видеть здесь оттенки определенной телеологии, как бы подчиненной принципу воплощения. Но поскольку эта телеология относится к достаточным условиям воплощения, здесь нет опасности воспроизвести классическую телеологию (т.е. ретро-каузальности) самого тварного мира, раскритикованную Кантом двести лет назад. Здесь скорее подразумевается некая типология, свидетельствующая о телеологии сознания человека, связанной с его Божественным образом.
Что касается телеологии на онтологическом уровне, то научных оснований для нее, конечно, нет, ибо научные рассуждения исключают причинность из будущего (т.е. ретро-каузальность). Однако, если гипотеза не-хроноло-гической и не-временной достаточности исторического воплощения была бы принята, событие воплощения стало бы конститутивным для сотворения мира в достаточно радикальном смысле (аналогичном тому, что на других основаниях предлагается в сильном антропном принципе), так что все теории creatio ex nihilo стали бы неявными формами теорий о возникновении органической жизни и человека как потенциального воспреемника воплощения. Богословское утверждение о случайности сотворения в прошлом было бы в каком-то смысле нейтрализовано необходимостью предстоящего заклания Агнца «от основания мира». Если бы это было так, то нераскрытые достаточные условия для самого сотворения этого мира, присутствие которых закодировано в случайных физических константах, определяющих форму мира, приспособленного для воплощения (например, случайность возраста Вселенной), перестали бы функционировать как случайные, тем самым лишая Бога, в соответствии с учением Отцов Церкви, непостижимой мудрости и произволения Творца мира12. Именно это является причиной того, почему богословски, как это утверждалось выше, такая действенность исторического воплощения по отношению к некоторым областям сотворенного органического мира может быть обоснована не как некая внешняя онтологическая действенность, а как моральное и эсхатологическое собирание всех частей творения человеком как макроантропосом. В таком ракурсе идея «глубокого воплощения» скорее выступает человечески сконструированным видением единения всего творения во Христе, вносящим вклад в патри-стически сконструированное посредничество человека между разделениями в тварном мире. Фактичность воплощения предоставляет нам некие трансцендентальные указатели (paradeigmata) нераскрытых достаточных условий, ответственных за существование разумной жизни и, следовательно, самого артикулированного образа Вселенной. Эти достаточные условия не являются частью предлежащей онтологии мира, и здесь выходит на поверхность аспект воплощения, связанный с откровением о приходе Божиего Царства на Земле (и во всей Вселенной).
Однако в контексте «глубокого воплощения» возникает еще один вопрос: влекут ли достаточные условия уникального исторического воплощения на Земле выполнения условий по спасению всей Вселенной? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо философски переосмыслить смысл той феноменальности, которая присуща этому событию. Событие воплощения не может быть предвидено и предсказано (не в том смысле, что невозможно предвидеть что-либо, ибо событие тоже является фактом), но в том смысле, что то, что делает мировой факт (историческое явление Логоса-Христа во плоти) событием, не может быть подведено к чему-либо предвиденному и предсказанному на уровне физической причинности. Событие воплощения в этом смысле наделяет историю будущим, ибо оно опережает само себя и становится событием не в тот момент, когда оно происходит как факт, а только в перспективе будущего: оно становится событием как тем, чем оно стало в процессе своего собственного развертывания в будущее. Другими словами, смысл воплощения как учреждающего события становится понятным только в контексте того, по отношению к чему оно выступает учреждающим, т. е. Царства Божьего.
Опыт события воплощения, будучи не полностью эмпирическим (как превышающем границы своего собственного воздействия на человека), и который стал возможен только в процессе рефлексии над жизненным путем Христа апостолами и Отцами, никогда не был доступен в его настоящем, но «стал возможным» только через его ретроспективное осмысление. Действительно, в течение четырех веков христиане осознавали смысл того, что произошло, чтобы создать целостное представление о смысле ретроспективных событий и фактов, который был сообщен в той или иной форме последователям Христа и его комментаторам. Аналогично можно предположить, что человеку пришлось ожидать две тысячи лет появления идеи «глубокого воплощения» в процессе ретроспективного осознания того же исторического факта. Но тогда можно спросить: в чем же состоит разница в модусах осознания смысла исторического воплощения в прошлом (скажем, во времена Халкидонско-го Собора) и настоящем (в контексте современной богословской дискуссии о «глубоком воплощении»)? Если событие воплощения превышает метафизическую невозможность единения Бога-творца со своим творением, делая таким образом возможным то, что невозможно, выходя за рамки присущей миру причинности, тем самым исключая свое предвидение и предсказание, не имея характеристик в терминах качества и количества, не соотносимого ни с чем в мире, то можно квалифицировать воплощение как насыщенный феномен, чье интуитивное содержание превышает меру любой попытки дис-курсивно описать это событие.
Событие воплощения как насыщенный феномен допускает нескончаемую открытую герменевтику, ведущуюся уже два тысячелетия и продолжающуюся в наши дни. Такая герменевтика составляет теологумен (theologumen), т. е. то, что Отцы Церкви называли богословским мнением. Если бы такая герменевтика служила только философским целям, ее онтологический смысл не вызывал бы затруднений, ибо он не приводил бы к необходимости переноса истины богословского мнения на христианскую религиозную практику. Однако, если герменевтика «глубокого воплощения» стала бы претендовать на онтологическую истину о частном способе присутствия Бога в мире, это привело бы уже к серьезной необходимости нового прочтения и «обновленной» экзегетики Нового Завета, что касается его трактовки естественных существ, таких как растений, животных, неорганической материи, переосмысления смысла таинств (крещения, например), смысла евхаристического присутствия и т. д. Различие в подходе к идее «глубокого воплощения» в философии и богословии в конечном итоге связано с различием в средствах по ипостазиро-ванию истины. Философски, как мы видели выше, единственное, что можно было бы поддержать логически и научно в идее «глубокого воплощения», это то, что необходимые условия для появления человека и, следовательно, для возможности воплощения, укоренены в космологических условиях, отнесенных к видимой Вселенной (т. е. только к 4% всего материального состава Вселенной). Весь дискурс антропного принципа и точной настройки Вселенной указывает на тот факт, что, будучи рассмотренной в этом контексте, идея «глубокого воплощения» тривиальна. Однако богословие предполагает другой критерий истины, соотносящейся с опытом Бога в Церкви, т. е. эккле-зиологический опыт, поддерживаемый церковной молитвой и евхаристи-ей13. Такой путь к истине использует другой тип обоснования, выводя его субъекта за пределы метафизики мира в Божественную среду, раскрываемую ему Св. Духом. И здесь проблема не в том, присутствует ли Св. Дух за историческим воплощением или «глубоким воплощением», а в том, как Дух поддерживает истину догмата о воплощении и идею «глубокого воплощения». В то время как истина Догмата об историческом воплощении утверждается со-борно и евхаристически (поскольку Св. Дух ипостасно присутствует в литургических церковных событиях, идея), идея «глубокого воплощения» не может получить такого же обоснования, поскольку она неявно предполагает изменение смысла евхаристии и, следовательно, неявно, изменения смысла Церкви как тела Христова, конституируемой актами сопричастия Божественному с помощью Духа. Постулат о присутствии ипостаси Св. Духа в основании «глубокого воплощения» — если последнее действительно предполагает «телесное» вхождение Логоса в плоть органических существ, а также некоторых неорганических форм — по сути предлагал бы пневматологию, в которой Дух входил бы в каналы истории в самом начале мира, таким образом лишая Церковь ее исключительной роли во взывании ипостасного Св. Духа в той части литургии, анафоре, которая имитирует событие Пятидесятницы14. Воплощение Логоса-Христа во плоти Иисуса из Назарета может быть «феноменализи-ровано» евхаристически, потому что за ним присутствует Дух, «невидимый» в рубриках пространства и времени. Поскольку на данном историческом этапе идея «глубокого воплощения» не сопровождается какой-либо поддержкой со стороны экклезиологического богословия и евхаристической практики, она остается теологуменом, нуждающимся в дальнейшем развитии.
Каков смысл современных научных взглядов о Вселенной в свете христологии? Заключение
Существование человека на Земле есть эмпирический факт и историческое событие восприятия Богом человеческой плоти, как исходный «факт» христианской истории, и представляет собой свидетельство того, что необходимые физические условия для появления человека и, следовательно, возможности воплощения выполнены на Земле, так что отрицать это было бы логически противоречивым. Поскольку эти условия в конечном итоге являются космологическими, воплощение действительно является «глубоким», ибо эти необходимые условия ретроспективно вмонтированы в начальные условия Вселенной и действенны для всех форм тварного мира. Библейский нарратив сотворения и его герменевтика просто предполагает выполнение этих условий. Однако необходимые условия для возможности воплощения не гарантируют того, что историческое событие воплощения произошло две тысячи лет назад. Достаточные условия не могут быть обнаружены в самой ткани тварного мира, в его физических или биологических структурах (несмотря на то, что существует развитая герменевтика таких условий (т.е. исторического воплощения) в контексте человеческой истории). Говоря формально, достаточные условия не имеют метафизического основания, демонстрируя событийный характер воплощения, т.е. как такого феномена, который не эксплицируется дискурсивно, превосходит любые ожидания и возможность предсказания, невоспроизводим и метафизически невозможен.
Современная космология, физика, биология, астробиология, техника космических исследований и т. д. предоставляют обширное свидетельство того, что даже необходимые условия не выполнены в некоторых местах во Вселенной, не говоря уже о достаточных условиях. Более того, именно в силу необозримых размеров Вселенной человек в лучшем случае имеет доступ к видимой части (причинно-связанной с нами как наблюдателями и вероятно бесконечно малой) Вселенной, а также (вместе с другими земными формами жизни) единосущен лишь 4% того вещества, которое якобы составляет всю Вселенную. В силу этого трудно поверить, что Христос, пришедший в мир как Свет от Света (Ин 1:4; 10:10) присутствовал бы во плоти в 96% не-единосущной человеку и любой другой форме земной жизни темной материи (скрытой массы) (DM) и темной энергии (DE), в миллиардах звезд, каждая из которых является прототипом миллиона атомных бомб, в пустом пространстве, заполненном ионизирующими излучениями, способными убить все формы жизни, и т. д. Соответственно, любые попытки перенести эффекты исторического воплощения Логоса-Христа в земной плоти на всю Вселенную кажутся с научной и философской точки зрения несостоятельными. Если воплощенный Логос-Христос позиционирует себя как Жизнь, воплощение может осмысленно быть соотнесено только с уже существующей жизнью, и только косвенно с необходимыми космологическими условиями существования жизни.
Если теперь мы попытаемся резюмировать христологическое отношение к современной космологии, то мы вынуждены признать, — то, что предлагает современная космология как ее обобщающий взгляд на природу мироздания, оказывается по крайней мере странным. Вводя в теорию ненаблюдаемые и не-единосущные по отношению к жизни ингредиенты, космология предлагает в высшей степени спекулятивный нарратив, чья теоретически моделируемая согласованность может быть оправдана, но чей экзистенциальный смысл остается непонимаемым. Такая космология, по сути, утверждает, что 96% вещества Вселенной являются, по-видимому, «необходимыми» для существования жизни, но фактически принадлежат к некой отделенной от человека области мира. Физическая космология рассматривает скрытую массу (DM) и темную энергию (DE) как объективные физические реальности. Однако, поскольку на данном этапе развития науки прямое взаимодействие с ними невозможно, их функция в теории может быть интерпретирована, как если бы они были умопостигаемыми сущностями, входящими в дискурс Вселенной для того, чтобы дополнить ее видимую часть до систематического единства природы. С богословской точки зрения здесь неминуемо возникает трудность: с одной стороны, можно представить, что DM и DE созданы творящей волей и премудростью Логоса, т. е. воипостазированы им для того, чтобы была возможна видимая часть мира (4%) во Вселенной. Тот же Логос воплотился только в 4% той же Вселенной. Таким образом, для физического воплощения необходима была только видимая Вселенная, а все остальное (96%) было как бы побочным результатом именно для того, чтобы воплощение было возможно в принципе.
Тогда, в отличие от человека, не понимающего причину такого разделения в «материи» Вселенной (видимой и невидимой), Божественный Логос, т. е. воплощенный Христос, должен был бы знать причину этого, но, выражаясь богословски, она остается для человека в тени непостижимости премудрости Божией и Его воли, инициирующей сотворение мира. Человеку они недоступны и, следовательно, он не в силах проводить изыскания о деталях сотворения. Все космологические схемы происхождения Вселенной оказываются, таким образом, не более чем эпистемологически универсальными попытками поиска систематического единства тварного мира и его формулировки в некоем едином принципе. Богословие помещает такой принцип во Христе как Альфе и Омеге всего, придавая тем самым Христу космический смысл. Но таким образом понимаемое систематическое единство мира все же оказывается расщепленным в себе на основе предлагаемого космологией качественного и количественного различия между двумя областями материального творения. Такое различие имеет христологическое измерение: Христос «присутствует» в DM и DE только во-ипостасно (как их творец), в то время как Он присутствует телесно (т. е. не только во-ипостасно) в той части видимого тварного, в которой возможен человек. Несмотря на то, что Вселенная непознаваема человеком в полной мере в силу того, что она создана непознаваемым Богом, т. е. ее сигнификаторы не исчерпывают того, что они призваны обозначать, смысл сигнификаторов технически невидимой части Вселенной (DM и DE) остается богословски непроясненным, ибо он не подпадает под определение в терминах видимого творения как имеющего отношение к существованию человека, но также его невозможно квалифицировать как чисто умопостигаемое творение (невидимое не в техническом смысле), связываемое с ангельскими (демоническими) мирами, вполне вероятно не нуждающимися в спасении. Можно было бы предположить, на богословских основаниях, что темная сторона творения (DM и DE) балансирует видимую сторону для того, чтобы свет последней был показан и зрим человеком. Здесь мы входим в своего рода диалектику света и тьмы на физическом уровне.
Но главная богословская неудовлетворительнность, что касается расщепления творения на две сотериологически различные части, такова: следует ли нам эпистемологически и физически интересоваться темной стороной физического тварного мира для нашего спасения? Подозрение состоит в том, что мы не должны этого делать, поскольку сам Христос сошел в мир через видимую часть Вселенной, оставив ее темную часть в стороне как не связанную непосредственно с историей спасения. И все же трудно интерпретировать дуализм спасительных действий Божественного Логоса: почему спасение распространяется на одну часть тварного мира, когда Бог взывает к человеку и ставит его во главе этого спасения, в то время как другая часть остается сотериологически пустой? Снова: остается, конечно, возможность сослаться на скрытую мудрость и волю Божию для того, чтобы смириться с концепцией Вселенной, созданной на 96% не-единосущной по отношению к человеку и, как следствие этого, абсолютно непостижимой. Но это не разумный довод, поскольку он просто констатирует данное положение дел без какого-либо дальнейшего прояснения. Поэтому создается впечатление, что такая установка привносит в человеческие представления о мире новый тип более согласованной и теоретически умудренной мифологии, но, снова, не обладающей никаким сотериологическим содержанием. Именно поэтому кажется, в свою очередь, что единственной значительной частью концепции тварной Вселенной является та, которая относится к существованию человека, ибо Альфа и Омега любых артикуляций о Вселенной есть человек, так что независимо от того, какой сценарий предлагает космология, он должен содержать область такого физического существования, в котором возможна история спасения. Отсюда следует, что в космологии истинно имеет отношение к богословию лишь то, что соотносится с человеком. С богословской точки зрения космология должна быть антропной, или, что более точно, христологической. Если космология утверждает о Вселенной то, что исключает жизнь и физическое присутствие Бога (воплощения) в ней, такая космология неадекватна и сотериологически пуста.
Из только что обсужденного становится почти что очевидно, что богословски понимаемое воплощение, эксплицированное с помощью условий его возможности во Вселенной, вносит вклад в антропологию, а именно в утверждение уникального положения человека во Вселенной, а также в убеждение, что жизнь есть уникальный дар человеку для того, чтобы быть в сопричастии Богу-творцу, сопричастии, чьим конечным архетипом было воплощение, т. е. ипостасное единение человека и Бога во Христе. Если воплощение интерпретируется как мотив сотворения, то человек во плоти также является мотивом сотворения: несмотря на философски понимаемую случайность сотворения, последнее обладает конкретностью, заключающейся в том, что на определенном этапе его развития должен появиться человек. Нетрудно увидеть здесь аналогию с Сильным АП: «Вселенная должна обладать свойствами, позволяющими развиться жизни в ней на определенном этапе ее истории»15. Однако деликатное различие с этим принципом состоит в том, что мы говорим не столько о человеке как таковом (что было бы очень похожим на старомодную телеологию), но о конечном архетипе человека — воплощенном Христе, где телеология замещена христианской типологией. Христианская типологическая интерпретация Вселенной подразумевает радикальное обращение логической причинности и философски основано на придании событию Христа статуса учреждающего события, выходящего за пределы тем-поральности Вселенной. Космология, производя общую картину Вселенной, полностью согласована с богословским взглядом о том, что воплощение является мотивом сотворения. Тогда смысл космологии может быть понят как такое интеллектуальное движение по созданию научной картины Вселенной, которое содержит как ее базовый элемент описание происхождения всего как соотнесенного с современным состоянием космоса, в котором есть человек и подразумевающим условия воплощения. Присутствие человека и возможность воплощения не образуют телоса эволюции Вселенной
(как это было предложено некоторыми богословами), но представляет собой конечный архетип, придавая деталям научно-космологического исследования статус типов присутствия человека и Христа во Вселенной по аналогии с типами прихода Христа в мир из нарратива Ветхого Завета. Такое видение смысла космической эволюции соответствует главной идее диалога между богословием и космологией. Ее можно суммировать так: порядок космоса раскрывается изнутри порядка (спасительной) истории, являющейся эпистемологически центральной просто в силу эмпирического факта существования человека. То же может быть интерпретировано по-другому, используя терминологию феноменологии: раскрытие космического порядка имеет место изнутри феномена человека (принадлежащего порядку истории), действующего как центр раскрытия и манифестации Вселенной, т. е. как имеющего дар от Бога (архетипически присутствующий в воплощенном Христе) создавать интеллектуальный синтез Вселенной в условиях его телесного существования. Феноменологическая переформулировка устраняет любую наивную классическую телеологию, замещая ее формальной телеологией космологического мышления (как присущей именно человеку), имеющей целью раскрыть смысл происхождения Вселенной для того, чтобы понять современное человеческое состояние. Космология как таковая возможна в силу архетипа воплощения в человеке. Она существует как человеческий феномен, но лишь через способность человека имитировать воплощенный Логос и созерцать Вселенную «в уме». Богословие, таким образом, неявно присутствует в космологическом исследовании в той базовой преданности богочеловеческому идеалу, т.е. желанию раскрыть смысл человеческого существования в перспективе вечности.
Заключительный момент связан с вопросом о возможности жизни за пределами Земли и вопросом о множественных воплощениях. Если интеллектуальные качества человека рассматриваются как универсальные для определенного уровня биологической организации, то последние открытия в области астрономии экзопланет в нашей галактике и их потенциальной множественности во Вселенной в целом ставят под сомнение утверждения об уникальности человека во Вселенной. Однако с богословской точки зрения здесь сразу же возникает проблема утверждаемой уникальности исторического воплощения на Земле. Более специфично, могут ли иметь место множественные воплощения Бога-творца в тех местах Вселенной, где развились разумные формы жизни?16 В таком ракурсе сама постановка проблемы о взаимоотношении богословия и космологии как разновидности радикально уникального общения между человеком и Богом претерпевает существенные изменения.
Историческое воплощение Христа богословски трактуется как случайный, но, в то же время, и необходимый результат в арке сотворение-обожение, т. е. как мотив сотворения, могущего потенциально привести тварный мир (через человека) к единению с Богом. Фактическое существование человека на Земле и историческое событие принятия Богом человеческой плоти предоставляет свидетельство того, что необходимые физические условия для возможности воплощения выполнены во Вселенной так, что множественные воплощения (если они подразумевают аналогичный «механизм») не могут быть исключены на физическом основании. Сама проблема становится строго философской и богословской. Поскольку сущность человека подразумевает не только физико-биологические структуры, но также архетип воплощенного Сына Божьего, воплощение может трактоваться как конститутивный принцип такой ипостасной разумности человека на Земле, которая позволяет ему осуществить сопричастие с Богом-творцом. Последнее не вмонтировано в естественные условия, и требует снискания благодати как определенного типа трансцендирования, присущего только человеку. Отсюда следует, что нет логической необходимости для воплощения Сына Божьего на других планетах, если только не осуществить необоснованную экстраполяцию человеческого состояния на другие формы жизни во Вселенной. Любая спекуляция в отношении множественных воплощений кажется сильной формой антропоцентризма, допустимого эпистемологически, но не онтологически.
Воплощение Бога на Земле не может рассматриваться в изоляции от полноты события Христа, включающего воскресение, вмешательство Св. Духа в историю внутри арки «сотворение — обожение». Поскольку это событие произошло на Земле, последняя интерпретируется как сотериологический центр Вселенной17. Не имеется достаточных оснований для переноса этого качества на другие места во Вселенной. Другими словами, космографическая посредственность Земли (неявно предполагаемая в самой стратегии поиска экзопланет) не изменяет ее богословской центральности. Действительно, на основании воплощения можно утверждать, что Вселенная однородно теогенна (theogenic18), т.е. место воплощения богословски эквивалентно всем возможным положениям во Вселенной. А тогда фундаментальное изменение в порядке природы, осуществленное в воскресении Христа на Земле (невозможное без воплощения), будучи исходным моментом в преображении Вселенной, оказывается эффективно действующим во всем творении. И все же любая попытка придать воплощению статус универсального свойства Вселенной с помощью связки от «восприятия» (плоти) к (ее) «исцелению» по сути уравнивает преображенную плоть Христа со всем остальным творением, лишая тем самым процесс обожения человека и преображения видимой Вселенной их темпорального измерения и делая обожение свершившимся фактом. Подобное видение вступает в противоречие с православным пониманием обожения как личного аскетического подвига и созерцания, которые отнюдь не происходят из логики, из порядка природы.
Таким образом, богословие уместно для той части космологического исследования, которое имеет дело с жизнью во Вселенной, уча о том, что несмотря на однородные необходимые условия для возможности воплощения Творца на экзопланетах (предполагая, что на них может быть жизнь), достаточные условия для исторического воплощения не являются «естественными» и, следовательно, не могут быть экстраполированы на другие положения во Вселенной. Если это так, то само предположение, что во Вселенной возможна разумная жизнь (аналогичная человеческой) при прочих равных необходимых условиях кажется богословски сомнительным. Космологическая однородность видимой Вселенной и предполагаемое единосущие 4% ее вещества, а также теогенная однородность Вселенной по отношению к Земле не влекут за собой того, что произошедшее на Земле воплощение может быть перенесено в другие места во Вселенной.
Список литературы Космологическая оценка условий воплощения. Часть 2
- Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2006.
- Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М.: Центр «СЭИ», 1991.
- Марион Ж.-Л. Насыщенный феномен // (Пост) феноменология. Новая феноменология во Франции и за ее пределами / Пер. с фран.; сост. С. Шолохова, А. Ям-польская. М.: Академический проект, 2014. С. 63-99.
- Нестерук А.В. Космос мира и космос Церкви: преп. Максим Исповедник и богословское завершение космологии // Метапарадигма. Альманах: богословие, философия, естествознание. 2016. № 10. С. 89-123. EDN XQXIBX.
- Нестерук А.В. Полезна ли христология для космологии, и насколько воплощение является «глубоким» во Вселенной? Часть 1 // Труды кафедры богословия Санкт-Петербургской Духовной Академии. 2023. № 1 (17). С. 84-115.
- Торранс Т. Пространство, время и воплощение. М.: Изд-во ББИ, 2010.
- Barrow J.D., Tipler F.J. The Anthropic Cosmological Principle. Oxford: Oxford University Press, 1986.
- Cole-Turner R. Incarnation Deep and Wide: A response to Niels Gregersen // Theology and Science. 2013. Vol. 11. No. 4. P. 424-435.
- Gregersen N.H. Curs Deus Caro: Jesus and the Cosmos Story // Theology and Science. 2013. Vol. 11. No. 4. P. 370-393.
- Gregersen N. H. Introduction // Incarnation. On the Scope and Depth of Christo-logy / Ed. by N. H. Gregersen. Minneapolis: Fortress Press, 2015. P. 1-21.
- Marion J.-L. De Surcroît. Études sur les phénomènes saturés. Paris: Presses Universitaires de France, 2001.
- Marion J.-L. Le phénomène érotique. Paris: Grasset, 2003.
- McPartlan P. The Eucharist Makes the Church: Henri de Lubac and John Zizioulas in Dialogue. Edinburgh: T & T Clark, 1993.
- Peters T. One Incarnation or Many? // Astrotheology. Science and Theology Meet Extraterrestrial Life / Eds. by T. Peters, M. Hewlett, J.M. Moritz, R.J. Russel. Eugene, Oregon: Cascade Books, 2018. P. 271-302.
- Teilhard de Chardin P. Hymne de l'Universe. Paris: Editions du Seuil, 1961.
- Teilhard de Chardin P. L'Avenir de l'Homme. Paris: Éditions du Seuil, 1959.
- Teilhard de Chardin P. Le phénomène humain. Paris: Editions du Seuil, 1955,
- Teilhard de Chardin P. Science et Christ. Paris: Éditions du Seuil, 1965.
- Tresmontant C. Essais sur la pensée hébraïque. Paris: CERF, 2017.