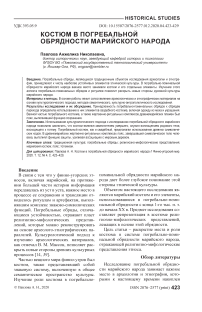Костюм в погребальной обрядности марийского народа
Автор: Павлова А.Н.
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 4 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Погребальные обряды, являющиеся традиционным объектом исследования археологии и этнографии, принадлежат к числу наиболее устойчивых элементов этнической культуры. В погребально-поминальной обрядности марийского народа важное место занимали костюм и его отдельные элементы. Изучение этого аспекта погребально-поминальных обрядов и ритуалов позволит раскрыть новые стороны духовной культуры марийского народа. Материалы и методы. В основе работы лежит сопоставление археологических и этнографических материалов на основе культурологического подхода, методов семантического, культурно-антропологического исследований. Результаты исследования и их обсуждение. Принадлежность погребально-поминальных обрядов к обрядам перехода определила использование в них элементов свадебного костюма, включая одежду из меха и украшения. Важной частью погребального костюма, а также жертвенно-ритуальных комплексов древнемарийских племен был пояс, выполнявший функцию сохранения. Заключение. Использование культурологического подхода к исследованию погребальной обрядности марийского народа позволило заключить, что костюм являлся заместителем умершего, служил воплощением родового тела, восходящего к тотему. Погребальный костюм, как и свадебный, предполагал использование древних символических кодов. В древнемарийских жертвенно-ритуальных комплексах пояс, завершавший символическое тело человека, выполнял функцию защиты, усиливая ассоциацию с мировым деревом.
Традиционная культура, погребальные обряды, религиозно-мифологические представления, марийский костюм, пояс, тотемизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147217993
IDR: 147217993 | УДК: 393.05.9 | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.04.423-429
Текст научной статьи Костюм в погребальной обрядности марийского народа
В связи с тем что у финно-угорских этносов, включая марийский, на протяжении большей части истории информация передавалась из уст в уста, важное место в процессе ее сохранения и трансляции отводилось ритуалам и артефактам, выполнявшим комплекс знаково-символических функций. Погребальные обряды, отличающиеся устойчивостью, отражают пласт религиозно-мифологических представлений, которые можно реконструировать на основе археолого-этнографических параллелей. Культурологический подход к изучению археологических материалов, как отмечал В. М. Массон, позволяет раскрыть новые стороны древних культурных процессов [14, 39 ].
Частью вещного мира финно-угров был костюм, также представлявший собой знаковую систему, включенную в общее семантическое пространство культуры. Изучение роли костюма в погребально- поминальной обрядности марийского народа дает более глубокое понимание этой стороны этнической культуры.
Объектом настоящего исследования являются марийский костюм и его элементы, использовавшиеся в погребально-поминальной обрядности с конца 1-го тыс. н. э. до начала ХХ в. Предмет исследования составляет репрезентация в костюме религиозно-мифологических представлений, лежащих в основе этой обрядности.
Цель статьи – раскрытие места и роли костюма в системе погребально-поминальной обрядности марийского народа, отражающей религиозно-мифологические представления этноса.
Обзор литературы
Исследование погребальной обрядности марийского народа занимает важное место в археологии и этнографии, которыми к настоящему времени накоплен
ISSN 2076–2577 (print) 423
^и1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ значительный фактический материал, характеризующий эволюцию погребальной обрядности марийского этноса с конца 1-го тыс. н. э. до настоящего времени. В центре внимания археологов и этнографов остается и костюм как часть материальной культуры этноса и этноопределяющий признак [2–4; 7; 9; 11; 13; 16–18; 20; 21; 23; 30]. Однако в этнологии и, особенно, культурологии последних десятилетий все больше внимания уделяется знаковым аспектам вещного мира [5; 6; 8; 12; 26]. Применительно к марийской культуре культурологический аспект проблемы места и роли костюма в погребальной обрядности не получил должного освещения в отличие, например, от представлений этноса о загробном мире [28].
Материалы и методы
Погребальный обряд, составлявший важную часть традиционной культуры марийского народа, привлек внимание исследователей XVIII–XIX вв. И. Г. Георги, Г. Ф. Миллера, А. Ф. Риттиха, И. Н. Смирнова, А. Фукс и др. Важные аспекты этой проблемы нашли отражение в работах Ю. Вихманн [30], К. И. Козловой [11], Н. С. Попова [20; 21], Л. С. Тойдыбековой [25].
Археологическое изучение древнемарийских памятников и памятников марийцев XVI–XVIII вв. [2–4; 9; 16–18; 27] позволило расширить представление о погребальной обрядности и поставить вопрос о роли в ней костюма и его элементов в культурологическом плане, исходя из системного подхода с учетом положений структурного функционализма и структурализма, семиотики, прежде всего теории знака.
Результаты исследования и их обсуждение
Погребальные и поминальные обряды и ритуалы, являясь частью обрядов перехода, с одной стороны, завершали земной путь человека, а с другой – открывали для него дорогу в иной, загробный, мир. Отношение к умершим в марийской культуре было двойственным: покойные предки считались покровителями живущих, при-
1 Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. Москва, 1995. С. 163.
424 Финно–угорский мир. Том 12, № 4. 2020
званными обеспечить их благополучие и защитить от различных напастей [29, 10, 12 ], но существовал и страх перед умершими. Прежде всего это касалось тех из них, кого подозревали в занятиях вредоносной магией, либо скончавшихся неестественной смертью, что способствовало возникновению у марийцев обычаев защиты от покойников [27, 39 ].
Исходя из социальной и религиозно-магической значимости погребально-поминальных обрядов и ритуалов, рассмотрим место в них костюма. Как писал В. Подо-рога, «обнаженное тело представляет собой урезанный человеческий опыт, в котором ощущается недостаток в четвертом, символически-духовном измерении, оно не событийно и, следовательно, не способно к внетелесной трансформации, дарующей видение иного мира»1. Костюм умершего должен был соответствовать этнической традиции, обеспечивая пропуск в загробный мир, он был одним из опознавательных знаков, по которым «ранее умершие сородичи встречают нового пришельца» [28, 207 ].
На протяжении истории марийского этноса наиболее характерным для него был обряд ингумации, при котором умерший в соответствующем его статусу облачении предавался земле. Обряд кремации, также известный у древнемарийских племен, предполагал, что украшения и одежда покойного, за исключением тех предметов, которые входили в облачение при сжигании тела, располагались в погребении в порядке ношения [17, 76–77]. В погребальном обряде костюм становился знаком умершего как члена рода, обладавшего определенным социальным статусом. Об этом свидетельствует обычай хоронить замужнюю женщину в свадебном платье. Как на свадьбу, одевали незамужних и неженатых [20, 161]. Свадебный костюм оказывался семантически наиболее емким, а потому максимально соответствующим задаче презентации умершего в загробном мире. Н. С. Попов отмечал: «Вещи, сопровождавшие невесту во время свадьбы, были воплощением ее души, жизненных сил… Они становились своего рода знаком-пропуском в мир кровных родственников» [21, 145–146]. Подтверждением служат археологические материалы: в могильниках XVI–XVIII вв. были обнаружены фрагменты головных уборов шурка и ошпу, надеваемых на свадьбу, а также богато декорированные уборы на-шмак, которые замужние женщины носили вместе с головным полотенцем шарпан [27, 48–49]. Головной убор и украшения использовали в поминальной обрядности, вывешивая их на шесте во время поминок на 7-й день, как и полный комплект свадебных украшений умершей девушки [21, 144–145].
Можно предположить, что женские захоронения IX–XI вв. с богатым набором металлических украшений представляют вариант свадебного (обрядового, по Т. Б. Никитиной [18, 15 ]) костюма, на что указывают находки фрагментов головных уборов из меха лисы [17, 12 ]. Подобные головные уборы до настоящего времени входят в костюм женщин – участниц свадебного поезда, а раньше входили в костюм невесты [24, 116 ]. Украшения, часть которых у древнемарийских племен изготавливалась женщинами, владевшими соответствующими символическими кодами [19, 14 ], были наиболее семантически значимой частью костюма. С развитием новых технологий ткачества символические акценты переместились в вышивку – в Средневековье ее возможности были ограничены, как и сфера применения (вышивка выполнялась металлической проволокой [19, 16 ]).
Как и свадебный, погребальный костюм был многослойным. Например, невеста у мари, устраивавших свадьбы летом, была одета в суконный кафтан и меховую шапку [24, 116–117, 125], не считая прочих предметов одежды, что можно объяснить обычаем закрывания (сокрытия) невесты с целью ее защиты или демонстрации благосостояния семьи. Мех широко использовался и в свадебных обрядах других финноугорских народов. Так, у мордвы невесту выносили на шубе или войлоке, покрывали шубой постель молодых и т. д., придавая меху апотропейное и продуцирующее значение [26, 80]. Присутствие шапки, рукавиц и других теплых предметов одежды в погребальном костюме мари, а в древнемарийских могильниках – кафтанов из телячьей (лосиной?) кожи, рубахи из меха куницы, а также одежды или дополнительного покрытия из бобрового меха [17, 12, 16, 18; 18, 13], как и обычай отвозить тело умершего на кладбище на санях, этнографы объясняют представлениями о местоположении загробного мира, страны мрака и холода, на Севере [20, 160]. Однако использование меха и меховой одежды в свадебной и погребальной обрядности связано и с семантикой вещей в обрядах перехода. Рудименты древней символики меха сохранялись в свадебной обрядности мордвы, где невесту в доме жениха встречала женщина в вывернутой наизнанку шубе и шапке, называвшаяся овто ‘медведь’ [26, 80]. У многих финно-угорских этносов медведь – тотемический первопредок, который, таким образом, и встречал мордовскую невесту в новом доме [1, 86]. На это указывают характерные для финно-угорских народов Европейской России сказки о сожительстве женщины и медведя, а также сохранившиеся в различных вариантах отголоски медвежьего праздника [15, 98, 100–101]. Меховая одежда и обычай закутывать тело умершего в мех или войлок, археологически прослеживаемый у древнемарийского населения [18, 21], могут быть связаны с древней идеей возвращения в тело тотема.
Предметы одежды и украшения служили символическим замещением умершего при создании кенотафа [17, 78 ], входили в состав жертвенно-ритуальных комплексов у финно-угров Поволжья и Приуралья, один из вариантов которых Т. Б. Никитина выделила как этноопределяющий признак погребального обряда марийского населения IX–XI вв. [17, 80 ]. Богатый набор украшений, завернутый в одежду, ткань, мех или кожу, помещали в берестяной туес или лубяной бочонок, который, как и сверток с одеждой, опоясывали ремнем [17, 80 ].
Жертвенно-ритуальный комплекс включал те же семантически значимые предметы, что и погребальный костюм. Как установила Т. Б. Никитина по материалам Русенихинского могильника, украшения и
^и1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ детали одежды соответствовали местоположению в костюме, надетом на человека [18, 22 ]. Обычай оставлять подношения умершим, включавшие предметы одежды и обувь, известен у различных групп финно-угорского населения, в его основе лежит представление о том, что и после смерти умерший нуждается в пище, одежде и пр. [28, 200–201, 211 ].
В составе древнемарийских жертвенноритуальных комплексов выделяются ремни с металлическими накладками, относящиеся к числу престижных предметов, демонстрирующих статус человека, обычно мужчины-воина [10, 82 ]. Ремень (пояс) входил как в мужской, так и в женский костюм [17, 86–87 ] и не только был важнейшей доминантой в его семантической системе, но и выполнял несколько символических функций, важнейшей из которых можно считать функцию сохранения в значении защиты и завершенности, «когда снятие пояса равносильно раскрытию человека»2. У финно-угорских народов снятие пояса сопоставимо с выходом из сферы культуры, превращением в потустороннее существо, что, по мнению П. А. Орлова, нашло отражение в погребальной обрядности удмуртов в виде размещения пояса в могиле вдоль тела умер-шего3. Этим же, вероятно, объясняется обычай восточных мари украшать поясом лошадь, везущую покойника [22, 168 ]. С подобными представлениями связано и снятие пояса при обращении к миру духов или во время родов. У беременной женщины, захороненной на Черемисском кладбище, пояс был расстегнут [17, 86– 87 ]: символика пояса сохранялась и в загробном мире, который мари представляли как своеобразное продолжение земной жизни [28, 207 ]. Однако загробный мир был иным, поэтому и пояс на покойнике завязывали иначе, чем на живом.
Пояс занимал важное место и в свадебной обрядности: невеста, покидая дом родителей, должна была держаться за пояс жениха [22, 168]. В данном случае пояс выступал не только воплощением мужской силы, заключая в себе потенцию рождения, как считали, например, удмур-ты4, но и защиты, соединения.
В жертвенно-ритуальных комплексах набор предметов одежды и украшений символизировал родовое тело, которое без пояса не могло считаться завершенным. Пояс вокруг хранилища, в качестве которого выступал бочонок или туес, – символ сохранения, соединения. Можно провести параллель между подобным туесом и священным деревом ( онапу ) – связующим звеном с миром богов [25, 97 ], которое также опоясывают лыковым пояском с насечками на концах.
Заключение
В погребально-поминальной обрядности марийского народа использовались элементы свадебного костюма, олицетворявшего не столько конкретного человека, сколько члена рода в обрядах перехода (невеста уходила из своего рода в род мужа, а после смерти женщина возвращалась в свой род). Умерших одевали в меховую одежду, у древнемарийских племен – нередко заворачивали в мех, что позволяет предполагать наличие в основе этого обычая древних тотемических представлений. Меховая одежда в свадебной обрядности, в частности, воплощала фертильные качества, даруемые первопредком, что подтверждает тотемические истоки обычая.
Предметы одежды и украшения служили заместителями умершего, представляя его как в кенотафах, так и во время поминок, составляли основную часть жертвенно-ритуальных комплексов, фиксируемых археологически.
Пояс, использовавшийся в свадебных обрядах, занимал важное место и в погребальном костюме, и поминальных обрядах. В погребально-поминальной обрядности он выполнял функцию сохранения, защиты, создавая ассоциацию со священным (мировым) деревом, подчеркивающую космологический характер обрядов.
Поступила 28.10.2020, опубликована 25.12.2020
Список литературы Костюм в погребальной обрядности марийского народа
- Антипкина Е. Н., Прокаева О. Н. Особенности функционирования предсценогра-фии в ритуально-обрядовых и праздничных действах мордвы // Финно-угорский мир. 2020. Т. 12, № 1. С. 81-89. DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.01.081-089
- Архипов Г. А. Дубовский могильник // Археология и этнография Марийского края: сб. ст. Йошкар-Ола, 1984. Вып. 8. С. 113-159.
- Архипов Г. А. Марийцы 1Х-Х1 вв.: К вопросу о происхождении напрода. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1973. 199 с.
- Архипов Г. А. Починковский могильник // Древности Волго-Камья: сб. ст. Казань, 1977. С. 110-118.
- Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. Санкт-Петербург: Наука. Санкт-Петербург, 1993. 240 с.
- Байбурин А. К. Семиотический статус вещей в мифологии // Материальная культура и мифология: сб. ст. Ленинград, 1981. Т. 37. С. 215-226.
- Васильев В. М. Материалы для изучения верований и обрядов народа мари. Красно-кокшайск: Маробиздат, 1927. 127 с.
- Владыкин В. Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск: Удмуртия, 1994. 384 с.
- Горюнова Е. И. Шойбулакский и Аксар-кинский могильники // Советская археология. 1937. № 3. С. 167-177.
- Добжанский В. Н. Наборные пояса кочевников Азии. Новосибирск: Изд-во Ново-сиб. ун-та, 1990. 162 с.
- Козлова К. И. Очерки этнической истории марийского народа. Москва: Изд-во МГУ, 1978. 344 с.
- Корнишина Г. А. Знаково-символические функции одежды в похоронно-поминаль-ной обрядности финно-угорских народов Урало-Поволжья // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2017. № 3. С. 157-162.
- Кузнецов С. К. Культ умерших и загробные верования луговых черемис. Вып. 1 // Этнографическое обозрение. Москва, 1905. Кн. 60-61. 77 с.
- Массон В. М. Исторические реконструкции в археологии. Самара: ТОР, 1996. 102 с.
- Мокшина Е. Н. Образ медведя в религиозных и мифологических представлениях финно-угорских народов (мордвы, марийцев, удмуртов, коми и др.) // Финно-угорский мир. 2012. № 3/4. С. 97-101.
- Никитина Т. Б. Марийцы в эпоху средневековья. Йошкар-Ола: ГУП РМЭ МПИК, 2002. 432 с.
- Никитина Т. Б. Погребальные памятники IX-XI вв. Ветлужско-Вятского междуречья. Казань: МарНИИЯЛИ, 2012. 408 с. (Археология евразийских степей; вып. 14).
- Никитина Т. Б. Русенихинский могильник // Археология евразийских степей. 2018. № 3. С. 8-240.
- Никитина Т. Б., Ефремова Д. Ю. Особенности погребений с орудиями литья на марийских могильниках IX-XII вв. // Фин-но-угроведение. 2011. № 2. С. 12-24.
- Попов Н. С. Погребальный обряд марийцев в XIX - начале XX в. // Материальная и духовная культура марийцев: сб. ст. Йошкар-Ола, 1981. С. 154-173. (Археология и этнография Марийского края; вып. 5).
- Попов Н. С. Экспедиционная работа Т. А. Крюковой среди марийцев в 60-х годах ХХ в. // Проблемы этнографии, истории и культуры марийского народа: сб. ст. Йошкар-Ола, 2007. С. 136-146. (Археология и этнография Марийского края; вып. 29).
- Сепеев Г. А. Восточные марийцы: Исто-рико-этнографическое исследование материальной культуры (середина XIX - начало XX в.). Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1975. 254 с.
- Смирнов И. Н. Черемисы: историко-этно-графический очерк. Казань: Тип. Императ. ун-та, 1889. 265 с.
- Тимофей Евсевьев: этнографические коллекции. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2002.148 с.
- Тойдыбекова Л. Марийская языческая вера и этническое самосознание. Йоэнсуу, 1997. 397 с.
- Шигурова Т. А. Свадебная одежда мордвы. Саранск, 2010. 172 с.
- Шикаева Т. Б. Марийцы (конец XVI - начало XVIII в.): по материалам могильников. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 1992. 160 с.
- Шкалина Г. Е. Священный мир марийский. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2019. 303 с.
- Яковлев Г. Религиозные обряды черемис. Казань: Православное миссионерское общество, 1887. 87 с.
- Wichmann J. Beiträge zur Ethnographie der Tscheremissen. Helsinki: Société finno-ougrienne, 1913. 126 S.