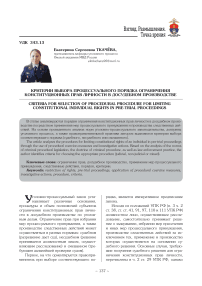Критерии выбора процессуального порядка ограничения конституционных прав личности в досудебном производстве
Автор: Ткачва Е.С.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Взгляд. Размышления. Точка зрения
Статья в выпуске: 2 (55), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются порядки ограничения конституционных прав личности в досудебном производстве посредством применения мер процессуального принуждения и производства следственных действий. На основе проведенного анализа норм уголовно-процессуального законодательства, доктрины уголовного процесса, а также правоприменительной практики автором выделяются критерии выбора соответствующего порядка (судебного, несудебного или смешанного).
Ограничение прав, досудебное производство, применение мер процессуального принуждения, следственные действия, порядок, критерии
Короткий адрес: https://sciup.org/140304936
IDR: 140304936 | УДК: 343.13
Текст научной статьи Критерии выбора процессуального порядка ограничения конституционных прав личности в досудебном производстве
У головно-процессуальный закон устанавливает различные основания, процедуры и объем полномочий субъектов ограничения конституционных прав личности в досудебном производстве по уголовным делам. Ограничение прав при избрании мер процессуального принуждения, а также производстве следственных действий может осуществляться в разных порядках: судебном (разрешение дает суд), несудебном (решение принимается должностным лицом, осуществляющим расследование) и смешанном (требующем дальнейшей проверки судом).
Первое, на что ориентируется правоприменитель при выборе соответствующего по- рядка, является императивное предписание закона.
Исходя из положений УПК РФ (п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. ст. 41, 91, 97, 110 и 111 УПК РФ) должностное лицо, осуществляющее расследование, самостоятельно принимает решение о задержании, избрании мер пресечения и иных мер процессуального принуждения, производстве следственных действий за исключением тех, применение и производство которых осуществляется на основании судебного решения. Основные случаи, требующие получения судебного решения для ограничения конституционных прав личности, перечислены в ч. 2 ст. 29 УПК РФ, однако системный анализ норм УПК РФ приводит к выводу о том, что данный перечень не является исчерпывающим.
Так, устанавливая судебный порядок ограничения права на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны посредством производства выемки (п.п. 5.1, 7 ст. 29 УПК РФ), законодатель исходит из того, что характер и местонахождение информации (предметов), подлежащей изъятию, известен следователю (дознавателю). Однако в реальном правоприменении могут складываться иные ситуации. Во-первых, сделать предположение о характере содержащейся в изымаемых предметах информации можно только в ходе производства следственного действия, целью которого является именно ее изъятие, во-вторых, разные документы (предметы) могут содержать различный объем сведений, в-третьих, нельзя исключать ситуации добровольного предоставления данной информации лицом (с его согласия). Кроме того, должностное лицо, осуществляющее расследование, может обнаружить документы (предметы), содержащие информацию о частной жизни лица (составляющую банковскую или иную охраняемую законом тайну), которые имеют отношение к уголовному делу, в процессе производства обыска (осмотра и пр.).
Возникают закономерные вопросы: «на что необходимо ориентироваться правопри-менителю?1», «какие критерии (помимо императивного предписания закона) учитывать при выборе соответствующего порядка?». Сформулировать ответы на поставленные вопросы возможно в результате комплексного анализа действующего законодательства, позиций высших судов Российской Федерации, юридической литературы и правоприменительной практики.
Очевидно, что прямое предписание закона о порядке производства определенного процессуального действия не всегда является единственным и достаточным критерием, определяющим порядок такого ограничения. Сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут иметь не одинаковую форму выражения и закрепления, храниться на различных объектах и у разных лиц. Именно поэтому характер (содержание) и объем получаемой (изымаемой) информации также является важным критерием, предопределяющим порядок производства следственного действия.
Указанный вывод согласуется с правовыми позициями Конституционного Суда РФ, выраженными в ряде решений. В одном из них высший судебный орган конституционного контроля указал на необходимость учета во всех ситуациях производства следственных действий, направленных на обнаружение и изъятие предметов и документов (обыск, выемка или иное следственное действие), «специфического характера содержащейся в изымаемых предметах и документах информации»2. Также Конституционный Суд РФ обратил внимание на способ ее получения и объем. Речь, в частности, идет о возможности получения сведений о частной жизни лица посредством производства не только следственных, но и иных процессуальных действий (например, направление запросов в порядке ч. 4 ст. 21 УПК РФ), которые производятся без судебного решения3. Конституционный Суд РФ подчеркнул, что производство выемки и обыска может быть сопряжено с применением мер принуждения, затрагивающих нормальное функционирование кредитной организации и интересы ее кли-ентов1. Так, если в случае исполнения запроса организация сама определяет объем и вид предоставляемой информации, то при производстве выемки (обыска) должностное лицо, осуществляющее расследование, производит изъятие в интересующих его объемах и форме.
Из приведенных позиций следует, что не только выемку документов (предметов), содержащих охраняемую федеральным законом тайну, следует производить по судебному решению, но и обыск с целью отыскания и изъятия таковых. Если во всех иных ситуациях (что является оправданным) учитывать не направленность следственного действия, а «специфический характер содержащейся в изымаемых предметах и документах информации», а также способ и объем получаемой информации, то производство любого из них должно происходить по решению суда (в том числе и осмотр, так как в процессе его производства могут быть обнаружены и изъяты такие предметы и документы).
Стоит отметить, что без должного внимания законодателя остались ситуации, когда в распоряжении органа, осуществляющего предварительное расследование, уже имеются предметы (электронные носители информации), содержащие сведения о частной жизни лица, тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений. Обозначим общие подходы к решению данного вопроса. Описанная ситуация неоднократно была предметом оценки Конституционного Суда РФ, которым указывалось на отсутствие необходимости получения судебного разреше-ния2. Между тем в судебной практике нет единства. Так, одни суды исходят из необходимости получения судебного решения3, другие, напротив, считают его необязательным4.
В уголовно-процессуальной теории по данному поводу также высказываются различные точки зрения. Ряд авторов считают, что получение судебного решения не требуется во всех случаях [1; 4], другие – что судебное решение не требуется только при производстве осмотра и экспертизы в отношении объектов, полученных в результате следственных действий, проводимых по решению суда (ранее санкционированного судом [6; 7]), третьи предлагают получать согласие от владельца мобильного средства связи на изъятие и об- работку информации о его частной жизни, личной и семейной тайне в письменной форме, а в случае отсутствия такого согласия – по судебному решению [2; 3].
Анализ обозначенных проблем показал, что при выборе соответствующего порядка учитывается также осведомленность лица об ограничении права и его волеизъявление. В контексте исследуемых вопросов интерес также представляет решение Конституционного Суда РФ1, в котором обращено внимание на характер самих взаимоотношений, складывающихся между участниками уголовного судопроизводства в процессе проведения следственных действий, специально предназначенных для извлечения информации о переписке, телефонных переговорах, почтовых, телеграфных и иных сообщений: наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка (статья 185 УПК РФ), контроль и запись переговоров (статья 186 УПК РФ), получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (статья 186.1 УПК РФ). Конституционный Суд РФ отметил, что в этих случаях ограничение неприкосновенности сведений осуществляется вне ведения участника переговоров, который не осведомлен о контроле за его переговорами и сообщениями, а потому ограничен в возможности своевременно оспорить правомерность соответствующих действий. Поэтому УПК РФ предусмотрена судебная процедура получения разрешения на их проведение.
В другом решении Конституционный Суд РФ, отказывая в принятии к рассмотрению жалобы на конституционность положений УПК РФ, допускающих осмотр мобильного телефона (наличия в нем сведений о телефонных соединениях, входящих и исходящих сообщениях) без судебного решения, принял во внимание, что собственник мобильного телефона не возражал против производства осмотра2.
Рассматриваемый критерий также наиболее ярко проявляется при определении порядка ограничения права на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ). Раскрывая содержание принципа неприкосновенности жилища, уголовно-процессуальный закон связывает порядок ограничения данного права с производством только трех следственных действий: осмотр, обыск, выемка. При этом порядок производства осмотра места происшествия дифференцирован законодателем в зависимости от наличия согласия проживающих в помещении лиц. Так, при его наличии – следователем (дознавателем) самостоятельно, а при его отсутствии – по решению суда (п. 4 ст. 29, ч. 1 ст. 12, ч. 5 ст. 177 УПК РФ). В отличие от осмотра, обыск и выемка в жилище производятся только на основании судебного решения (п. 5 ст. 29, ч. 3 ст. 182 УПК РФ).
Помимо обозначенных выше критериев на выбор порядка ограничения в значительной степени также влияет степень ограничения. Критерий «степень ограничения» характеризуется принудительным потенциалом, заложенным в каждом из следственных действий (например, при осмотре он меньше, чем при обыске) и применяемых мер процессуального принуждения. Чем он выше, тем больше гарантий охраны данного права в виде контроля со стороны суда. При этом принуждение фактически может и не применяться. Таким образом, принудительный потенциал, заложенный в порядок производства определенных следственных действий, говорит о большей степени ограничения права только в случае его применения. Аналогичная ситуация возникает, например, когда подозреваемый (обвиняемый), в отношении которого избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, не планирует покидать пределы населенного пункта, в котором он проживает. Очевидно, что тогда степень ограничения права на свободу передвижения в отношении данного лица значительно ниже, чем в ситуации, когда такому лицу органом предварительного расследования запрещается реализовать такое право.
Наиболее отчетливо критерий «степень ограничения» проявляется при сравнении личного обыска и освидетельствования в контексте принудительного потенциала ограничения права на свободу и личную неприкосновенность при их проведении. Производство личного обыска (п. 6 ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 184 УПК РФ) осуществляется по судебному решению, что связано с более высокой степенью ограничения соответствующего права, выражающегося в ограничении как физической, так и психической неприкосновенности, возможностью применения принуждения при производстве следственного действия. Производство освидетельствования, по общему правилу, не требует получения судебного решения. Однако закон не описывает случаи его принудительного производства, сопровождающегося обнажением лица. В ситуации отсутствия такого принуждения степень ограничения очевидно ниже, но при его наличии, нельзя однозначно утверждать, что такое ограничение является несущественным или менее существенным, чем при производстве личного обыска (который может ограничиться обыском верхней одежды).
Предваряя анализ следующего критерия – количество и характер правоограничений, применительно к избранию мер пресечения обратим внимание на следующее. Заключение под стражу, домашний арест, запрет определенных действий, избираемые по решению суда, связаны с непосредственным ограничением права на свободу и личную неприкосновенность и опосредованным ограничением реализации иных конституционных прав личности. Перечисленные меры пресечения связаны с изоляцией подозреваемого (обвиняемого) от общества на продолжительное время (до двух месяцев с возможностью продления). Запрет определенных действий является комплексной мерой пресечения, включающей ряд правоограничений, каждое из которых в некоторых случаях может рассматриваться в качестве автономной. В отличие от других мер пресечения, где правоограничения касаются нескольких конституционных прав, лишь ввиду многоаспектного характера и тесной взаимосвязи последних, данная мера пресечения может одновременно и непосредственно ограничивать сразу несколько прав. Законодатель, наделяя полномочиями по избранию соответствующих запретов исключительно суд, по нашему мнению, исходит именно из количественного критерия ограничения (ограничения сразу нескольких групп прав), а также характера ограничения (непосредственно или опосредованно).
Таким образом, количество и характер правоограничений можно выделить в качестве самостоятельного критерия ограничения.
Кроме этого при выборе определенного порядка ограничения особое значение имеет его продолжительность (срок). Любое право-ограничение в досудебном производстве является временной мерой, применение которой осуществляется в рамках установленных законом сроков, какая-либо неопределенность в данном вопросе или чрезмерная его длительность может привести к несоразмерности используемых средств и преследуемой цели. Именно поэтому законодатель, определяя порядок избрания мер процессуального принуждения или производства определенного процессуального действия, как правило, устанавливает и сроки их применения (производства). В свою очередь, продолжительное ограничение конституционных прав личности (применение меры пресечения, производство отдельных следственных действий, например получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами ст. 186.1 УПК РФ) требует получения судебного разрешения, а краткосрочное, при наличии исключительных обстоятельств (например, задержание подозреваемого на срок до 48 часов) допускается в несудебном порядке, что компенсируется возможностью последующего обжалования принятого процессуального решения в суд (ст. 125 УПК РФ).
Возможность несудебного порядка ограничения конституционных прав личности также объясняется наличием или отсутствием особого статуса у субъекта, в отношении которого применяется ограничение. Данный критерий может выступать в качестве исключительного, применяемого при выборе порядка ограничения конституционных прав отдельных категорий участников досудебного производства, когда это прямо предусмотрено законом. К таким ситуациям, например, относится сформировавшийся в российском законодательстве процессуальный режим, в рамках которого возможно проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвоката1.
Отдельные особенности порядка ограничения конституционных прав личности имеют и меры процессуального принуждения, применяемые в отношении высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, в частности применение временного отстранения от должности (ч. 5 ст. 114 УПК РФ) [5].
Ранее мы выделяли такой критерий как «императивное предписание закона». Однако, закрепляя ряд императивных требований о порядке ограничения конституционных прав личности, законодатель в тоже время предусматривает возможность отступления от них при наличии определенных, исключительных обстоятельств, например, наличие случая, не терпящего отлагательства. В УПК РФ указанный термин в основном употребляется применительно к ограничению конституционных прав личности при производстве ряда следственных действий, требующих по общему правилу получение судебного решения (ч. 5 ст. 165 УПК РФ)2. Наличие случая, не терпящего отлагательства, при производстве следственных действий, влияет на выбор соответствующей процедуры ограничения, которая в этом случае является смешанной, сочетая в себе элементы судебной и несудебной процедуры. Ограничение конституционных прав личности при наличии исключительных об- стоятельств выступает основным критерием, определяющим выбор данного порядка ограничения.
Основным признаком, характеризующим случай, не терпящий отлагательства, является необходимость действовать незамедлительно, т.е. неотложно, безотлагательно, немедленно. При этом характером незамедлительного производства обладают не только следственные действия, перечисленные в ч. 5 ст. 165 УПК РФ, но и меры процессуального принуждения.
Указанное позволяет заключить, что в действующем уголовно-процессуальном законодательстве отсутствуют нормы (за исключением императивного предписания), позволяющие во всех случаях однозначно определить порядок ограничения конституционных прав личности (судебный, несудебный или смешанный).
Разрешение сложившейся ситуации, на наш взгляд, возможно за счет использования выработанных нами критериев: 1) императивное предписание закона; 2) характер (содержание) и объем получаемой информации; 3) осведомленность лица об ограничении права, учет его волеизъявления; 4) необходимая степень ограничения; 5) количество и характер правоограничений; 6) продолжительность ограничения права; 7) особый статус субъекта, в отношении которого применяется ограничение; 8) наличие исключительных обстоятельств.
Предложенные нами критерии необходимо рассматривать и учитывать в системе (обладают системообразующим признаком). С одной стороны, каждый из них имеет собственное содержание, с другой – правильно распределить полномочия властных субъектов и, как следствие, определить порядок ограничения конституционного права воз- можно лишь при учете всех критериев в совокупности. Использование только одного критерия невозможно, поскольку каждый из них отражает определенный сущностный аспект ограничения и зависит от характера проводимого процессуального действия.
Список литературы Критерии выбора процессуального порядка ограничения конституционных прав личности в досудебном производстве
- Багмет, А.М. Пределы ограничения конституционных прав граждан в ходе осмотра сотовых телефонов участников уголовного судопроизводства / А.М. Багмет, С.Ю. Скобелин // Уголовное право. - 2017. - N 6. - С. 97-103. EDN: TGFEAK
- Бычков, В.В. Соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений при проверке сообщений о преступлениях и в ходе их расследования / В.В. Бычков // Российский следователь. - 2013. - N 24. - С. 10-13. EDN: RHRSTS
- Васюков, В.Ф. Некоторые особенности осмотра средств сотовой связи при расследовании уголовных дел / В.Ф, Васюков, А.В. Булыжкин // Российский следователь. - 2014. - N 2. - С. 2-4. EDN: RUZEOT
- Гаас, Н.Н. Осмотр изъятого мобильного устройства: проблемы правоприменения / Н.Н. Гаас // Вестник Уральского юридического института МВД России. - 2019. - N 4. - С. 28-32. EDN: ECPDDX
- Гапонова, В.Н. Применение временного отстранения от должности в уголовном судопроизводстве: теоретический и организационно-правовой аспекты: дис.. канд. юрид. наук / В.Н. Гапонова. - Омск, 2016. - 194 с. EDN: HQDZED
- Грачев, С.А. Тайна телефонных переговоров в правовых позициях высших судебных инстанций России: коллизия толкований / С.А. Грачев // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2020. - N 2. - С. 81-85. EDN: RPODWZ
- Клевцов, К.К. Изъятие и осмотр информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств / К.К. Клевцов, А.В. Квык // Законность. - 2020. - N 12. - С. 56-60. EDN: TPCSXR