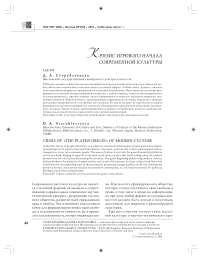Кризис игрового начала современной культуры
Автор: Сторублевцева Дарья Анатольевна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (60), 2014 года.
Бесплатный доступ
В XX веке человек и общество в целом оказываются втянутыми в бесконечную игру поиска все новых объектов потребления в материальной и духовной сферах. Любой смысл, процесс, явление культуры объективируется, превращается в предмет потребления. Пространство культуры превращается в игровую театрализованную площадку, с одной стороны, помогая дистанцироваться от повседневности, с другой стороны, уводя современного человека от насущных вопросов, требующих решения. Игровое начало, пронизывающее современную культуру, определяет границы реализации возможностей и потребностей человека. В этих культурно-исторических условиях формируется соответствующий тип личности, обладающий усреднёнными качествами одномерного человека. Такой человек, ориентированный на процесс потребления, является удобным материалом для политических, идеологических и других манипуляций.
Культура, общество потребления, симулякр, игра, массовая культура
Короткий адрес: https://sciup.org/14489803
IDR: 14489803 | УДК: 009
Текст научной статьи Кризис игрового начала современной культуры
Современная массовая культура не является случайной формой, её вызвали к существованию кардинальные изменения: научнотехнический прогресс, разрушение сословного общества, развитие идей гражданских прав и свобод. Эти изменения подготовили почву для формирования новых идей свободы и независимости личности, но и привели к коллективности, потери индивидуализ- ма. В результате сформировалось общество, которое готово отстаивать свои свободы и права, в том числе и право на информацию, но при этом любой формат культурных ценностей должен быть ясным и понятным, доступным для широкой и разнообразной аудитории.
Ещё раз отметим тесную связь массовой культуры и научно-технического про-
СТОРУБЛЕВЦЕВА ДАРЬЯ АНАТОЛЬЕВНА — кандидат философских наук, доцент кафедры социально-философских наук Московского государственного университета культуры и искусств STORUBLEVTSEVA DAR'IA ANATOL'EVNA — Ph.D. (Philosophy), Associate Professor of Department of social and philosophical sciences, Moscow State University of Culture and Arts
гресса. Омассовление культуры начинается именно в Новое время — в эпоху буржуазных преобразований и расширения экономических, социальных и культурных связей. Географические открытия предоставили невиданные прежде возможности для перемены места жизни, просто путешествий, о которых раньше нельзя было даже мечтать. А новые средства передвижения позволили людям стать более мобильными в поисках мест для проживания или отдыха. Изменились представления не только о пространстве, но и о времени — перед открывшимися возможностями реализации человеческих интересов и потребностей его стало катастрофически не хватать.
Конечно же, массовая культура своим возникновением во многом обязана развитию средств массовой информации и коммуникации. Уже во второй половине XIX века сформировался средний класс, ставший основным потребителем продуктов массовой культуры. Это повлекло за собой изменения в различных сферах культуры и искусства, как это произошло с литературой. Выпускаемые большими тиражами модные романы значительно увеличили аудиторию читателей, но при этом художественная ценность литературных произведений снизилась, и в результате литература из элитарного искусства превратилась в искусство для массового читателя — менее взыскательного и претенциозного. Омассовление культуры стало стирать границы между индивидуальным и общным, что, в конце концов, привело к потери самоценности личного пространства во всех сферах информационной культуры.
Что же стало причиной подобных изменений? Каков главный фактор, определяющий существование массовой культуры в той форме, в которой она существует на данный момент? По нашему мнению, этим фактором стал игровой контекст.
Главным культурным знаменателем в ХХ веке становится специфическая установка на восприятие мира в качестве хаоса, так называемая постмодернистская чувствительность (Ж.-Ф. Лиотар, В. Вельш, И. Хассан). «Один за другим умерли Бог, Человек, Прогресс, сама История, уступив место коду, когда умерла трансцендентность, уступив место имманентности, соответствующей значительно более высокой стадии ошеломляющего манипулирования общественными отношениями» [1]. Хаос, именуемый Ж. Делёзом хаосмосом, это первоначальное состояние неупорядоченности, то есть изначальной смешанности и бессистемности. Поэтому для общества ХХ века в целом были характерны подавление и вытеснение, эти основные механизмы, выделенные ещё Райхом и глубоко исследованные в работах Делёза и Гваттари.
Любая структура отныне, следуя этой тенденции, «умерщвляется», подвергается немедленной деконструкции. Бодрийяр заявляет, что «принцип симуляции правит нами сегодня вместо прежнего принципа реальности» [1]. Знаки уже указывают не на вещи, а на другие знаки. Соотнесённость вещей и знаков утрачивается. Основным приёмом культурного и творческого процесса становится деконструкция . В подобных условиях теряется ценность рационального мышления, главной установкой познания и оценки действительности становится игра .
В условиях смысловой деконструкции происходит утрата самостоятельного обогащения внутренней формы, истощается коннотативное поле художественного образа. Утрата внутренней формы превращает художественный образ в симулякр, так как при этом редуцируется и постепенно достигает нулевой отметки его символическая компонента. Все смысловое поле культуры заполняется симулякрами, которые выходят на первое место. Этот термин стал одним из ключевых понятий постмодернистской эстетики. «Симулякр, — как его характеризует Н. Б. Маньковская, — образ отсутствующей действительности, правдоподобное подобие, лишённое подлинника, поверхностный, гиперреалистический объ- ект, за которым не стоит какая-либо реальность» [6]. В современной культуре симулякры давно уже вышли за пределы художественной сферы и стали неотъемлемой частью массовой культуры, окончательно укоренившись в сознании общества.
Ж. Бодрийяр рассматривает всю современную культуру как некий симулякр , или миф: «Эмпирический предмет во всей случайности своей формы, цвета, материала, функции, дискурса, наконец, если это предмет культуры, в случайности своей эстетической целесообразности — такой предмет является просто мифом. Он не представляет из себя ничего, кроме различных типов отношений и значений, которые готовы сойтись друг с другом, вступить в противоречие и завязаться на нем как предмете» [1].
Бодрийяр выделяет понятие «первичных потребностей», к числу которых он относит потребность в собственной территории, на которой индивид может жить, есть, пить, спать, заниматься любовью. На этом уровне индивид не может быть отчуждён от самой потребности, которая у него имеется, он может быть только лишён средств её удовлетворения. «Этот биоантропологический постулат тотчас ведёт к неразрешимой дихотомии первичных потребностей и вторичных: по ту сторону порога выживания Человек больше не знает, чего он хочет, — так он становится для экономиста собственно “социальным”, то есть отчуждаемым, подверженным манипуляциям и мистификациям» [1].
Таким образом, основной проблемой, вызывающей разрушительные тенденции в современной культуре, является стремление к обладанию, желание получать удовольствие и регулярно удовлетворять все свои потребности. И культура, по словам Бодрий-яра, «становится особой разновидностью потребления — телезрителя, читателя газет и даже пешехода, пассажира, водителя, а комментарий к тексту неизбежно образует ещё один культурный текст» [3].
На первое место выходит массовая куль- тура как культура потребительского общества. Как пишет Ж. Бодрийяр в своей работе «Система вещей», вней «малейший “гаджет” образует вокруг себя техномифологическое силовое поле. Способ применения бытовых вещей становится почти непреложной схемой мировосприятия. Между тем технический предмет, требующий от нас лишь чисто формального соучастия, изображает нам мир, где нет усилий, где энергия абстрактна и всецело подвижна, где жест-знак обладает абсолютной действенностью» [3].
Для современной массовой культуры игра становится основным бытийственным фактором. Причём, как отмечал Хейзинга, не игра как феномен культуры, а игра как фальшивка. Он вводит понятие «пу-эрилизма» — путаницы игры и серьёзного. Жизнь, работа, не воспринимаются современным человеком серьёзно, а игровая деятельность, наоборот, приобретает серьёзный характер. Игровое начало определяет границы реализации возможностей и потребностей, расширяя их до бесконечности, так как само оно является воображаемой структурой. Постмодернизм, в рамках которого существует игровое начало массовой культуры, «его стилистический плюрализм, программный эклектизм образуют театрализованное пространство значительного пласта современной культуры, чья декоративность и орнаментальность акцентируют изобразительно-выразительное начало» [7]. Таким образом, все пространство культуры носит игровое, театрализованное начало, помогая дистанцироваться от повседневности.
В этих условиях формируется соответствующий тип личности на основе стереотипов и новых представлений о мире, стремящийся выделить свою индивидуальность через обладание все новыми и новыми «гаджетами», которые не индивидуализируют, а лишь включают субъекта в бесконечную потребительскую гонку. Такие качества «одномерного», усреднённого человека, который ориентирован только на потребление, являются хорошим материалом для политических, идеологических и других манипуляций, в связи с чем культура к началу ХХI века становится мощным ресурсом психологического воздействия.
С одной стороны, типичное для постмодернизма размывание границ культуры приводит к появлению новых интересных форм в искусстве. Вся среда становится объектом культурной игры. Появляется множество возможностей для вовлечения личности в игровое пространство — начиная с уличных скульптур и заканчивая грандиозными световыми шоу на фасадах зданий. Но с другой стороны, при этом сам человек массовой культуры в данном случае обычно выступает как объект, а не субъект культуры, потому что сам является частью массового проекта как своеобразной игры художника и среды, в которой человек является мыслящим посредником. Подобное эстетическое переживание требует осознанной потребности в культурном диалоге, что несвойственно человеку массовой культуры. Хотя он и предпочитает расценивать себя как значимую фигуру, которой принадлежит определяющая, ведущая роль, он таковой не является. Ведь одной из важных характеристик игры, по мнению Хейзинги, является на-пря же ние. «Напряжение — свидетельство неуверенности, но и наличия шанса. В нем сказывается и стремление к расслаблению. Что-то “удаётся” при определённом усилии. Присутствие этого элемента уже заметно в хватательных движениях у грудного младенца, у котёнка, который возится с катушкою ниток, у играющей в мяч маленькой девочки. Элемент напряжения преобладает в одиночных играх на ловкость или сообразительность, таких как головоломки, мозаичные картинки, пасьянс, стрельба по мишени, и возрастает в своём значении по мере того, как игра в большей или меньшей степени принимает характер соперничества. В азартных играх и в спортивных состязаниях напряжение доходит до крайней степени. Именно элемент напряжения сообщает игровой деятельности, которая сама по себе лежит вне области добра и зла, то или иное этическое содержание. Ведь напряжение игры подвергает силы игрока испытанию: его физические силы, упорство, изобретательность, мужество и выносливость, но вместе с тем и его духовные силы, поскольку он, обуреваемый пламенным желанием выиграть, вынужден держаться в предписываемых игрою рамках дозволенного» [10]. Отметим, что парадокс современного «человека играющего» в том, что он ищет в игре не удовольствия от напряжения, преодоления, а как раз обратного.
Ещё одним важным признаком, по мнению Й. Хейзинги, является то, что играющие создают новое сообщество — группу, которая сохраняет свой состав и после того, как игра закончилась. Но сохранение общих интересов и после получения удовольствия от участия в игровом поле требует ещё больших усилий. Да и сам процесс включения— выключения из игрового контекста требует напряжения. Массовая культура порождает потребляющего ценности культуры индивида, но не созидающего их. Человек массовой культуры предпочитает не выключаться из игрового пространства, все равно границы реальности настолько размыты и симуля-тивны, что не подлежат рациональному анализу, единственная форма существования в подобных условиях — постоянная включённость в игру.
Вместо объединяющего влияния игровой контекст массовой культуры создаёт разъединяющее поле. Каждый становится сам за себя, будучи замкнут в своём узком поле интересов. Именно поэтому потребление становится основной формой участия индивида в культурной жизни. Только через потребительство он может получить некое удовлетворение от существования, почувствовать себя живым субъектом культуры, осуществляющим, казалось бы, сознательный выбор. Как отмечают в своей работе Д. Ванн, Т.-X. Нэйлор и Дж. Де Грааф «Affluenza. The all-consuming epidemic» [4], можно говорить не о потребительстве как феномене культуры, а уже о болезненном синдроме, наркотической зависимости от вещей — «синдроме потребителя», который обезличивает современного человека. Ключевым словом, характеризующим современную культуру, становится affluenza (итал. «изобилие»). Как отмечают авторы, с 1986 года количество супермаркетов в США вдвое превысило количество университетов. Торговый центр Америки стал своеобразным собором, в нём даже совершают бракосочетания. Торговые центры стали местом досуга, поездки в которые совершаются «не ради нужного, а ради процесса покупания». Россия, как и Старый и Новый Свет, тоже уже присоединилась к этой потребительской гонке. Как правило, мегамоллы, несмотря на то, что поездки в них совершаются обычно всей семьёй, не задаются целью объединить людей, игнорируют тот самый важный игровой момент. Сетевые центры, стараясь заполучить целевого потребителя, стараются для каждого найти свою покупательскую нишу: кинотеатры для подростков, вещевые магазины для модниц, товары для дома — домохозяйкам, досуговые заведения и магазины для мужчин, а самые маленькие, как пальто в гардеробе, оставляются в игровых комнатах. Таким образом, даже семейный досуг является своеобразным симулякром — отдых всей семьёй является потребительством каждого в отдельности.
Следует отдельно отметить ещё одну категорию людей, которым игра полностью заменяет реальность. Это люди Сети. Вся современная экономическая система зависит от постоянно повышающихся темпов потребления, так как напрямую связана с информационной культурой, ведь сфера производства не так легко включается в симулятивное поле культуры. Быстро развивающаяся информационная среда активно участвует во всех процессах функционирования массовой культуры, продуцирует эмоциональный посыл: «Купи сейчас, заплати потом», стимулируя потребление как форму самореализации личности, достижения жизненных идеалов. «Интернет-магазины» и «магазины на диване» симулируют свободу выбора потребляющего субъекта, на самом деле ограниченного пространством СМИ, оставляя «за кадром» монитора или дивана большую часть реальности. Так, в 1999 году покупатели потратили 3 млрд долларов в Сети, в 2000 году — в три раза больше, современные потребительские траты превысили 30 млрд долларов в год [4]. Реклама стимулирует потребителя — «чем больше вы покупаете, тем больше вы экономите», появляется даже новый термин «по-траномить», означающий одновременно потратить и сэкономить.
Виртуализация жизненного пространства привела к появлению своеобразного типа массового человека, который в американской культуре получил название Митч Мэддокс («парень точка ком»). Это был реальный молодой человек, год не выходивший из дома, совершающий покупки только в Сети. Японское высокотехнологическое общество уже столкнулось с целым поколением, замкнувшимся в виртуальном пространстве, находящимся в острой социальной самоизоляции, разочаровавшимся в ценностях человеческого общества, — хикикомори. Подобное поколение молодых людей, выросшее в сетевом пространстве, чувствует острое одиночество, ненужность и полное растворение среди многомиллионного множества, обманчиво объединённого Сетью. Так передаёт эту потерю себя среди множества, экзистенциальную пустоту современного человека Х. Мураками: «Когда ты в лесу, ты становишься частью леса. Весь, без остатка. Попал под дождь — ты часть дождя. Приходит утро — часть утра. Сидишь со мной — становишься частицей меня. Вот так. Если вкратце» [8].
«Но игра — не подлинная реальность. Игрок понимает, что его действия во многом условны. Он не растворяется в “здесь и сейчас”, а сохраняет отстранённое и даже критическое отношение к происходящему.
Иными словами, человек (а вернее homo ludens — “человек играющий”) не может назвать игровой контекст по-настоящему своим» [5]. Игра перестаёт быть игрой, когда она полностью заменяет реальную жизнь. Хейзинга подчёркивает, что сущность игры — это свободный выбор, возможность его сделать.
Современная массовая культура отдалилась от игрового контекста, который наполнял существование людей интересом и азартом. Игра есть, прежде всего, свободное, ненавязываемое действие. «Игра — действие, протекающее в определённых рамках места, времени и смысла, в обозримом порядке, по добровольно принятым правилам и вне сферы материальной пользы и необходимости… Само действие сопровождается чувствами подъёма и напряжения и несёт с собой радость и разрядку» [11].
Чтобы преодолеть кризис игрового начала в современной культуре, необходимо в первую очередь обратиться к одному из главных принципов игры — согласию двух сторон, которые осознанно участвуют в процессе выбора. Утрата этого принципа приводит к тому, что люди теряют доверие к ценностям культуры, которые представ- ляются отныне не объективной абсолютной системой, а определяются игрой выбора в зависимости от целей потребления. «Ценность перестаёт быть абсолютной, то есть ценной самой по себе. Ценность чего бы то ни было теперь назначается потребителем этой ценности» [5]. В подобных условиях рушится авторитет всех систем общественного и политического устройства, теряется доверие к государству, церкви, семье.
Игра, являясь одной из специфических форм деятельности человека, должна строиться на сознательном принципе выбора. Тогда человек снова начнёт получать от игры удовольствие, ценить пространство культуры как способ самореализации, творчества, перестанет чувствовать себя потребителем. Это кардинально изменит духовную сущность современного человека, даст ему новые способы и смыслы существования в широком информационном поле культуры. И «облик массовой культуры… зависит от самих творцов культуры и от тех ценностных потребностей личности, которые формируются на основе её приобщения к культурным образцам и нормам, соотнесённым с духовно возвышающими личность морально-нравственными принципами» [9].
Список литературы Кризис игрового начала современной культуры
- Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. Москва, 2003. 55 с.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Москва: Добросвет, 2000. 130 с.
- Бодрийяр Ж. Система вещей. Москва, 2001.
- Graff John de, Wann David, Naylor Thomas H. AFFLUEZA. The all-consuming epidemic. San Francisco, Berrett-Koehler Publ., 2011-2002.
- Карпов A. Пространство культуры [Электронный ресурс]//Православная беседа: [веб-сайт]. Электрон. дан. 2012. № 6. С. 70-75. URL: http://culturolog.ru/index.php?option=com_content&task=view& id=1549&Itemid=35 (дата обращения: 26.02.14)
- Культурология XX век: энциклопедия: в 2 томах. Санкт-Петербург: Университетская книга, 1998. Т. 2. 211 с.
- Маньковская Н. Б. Париж со змеями: Введение в эстетику постмодернизма. Москва, 1995. 198 с.
- Мураками Х. Кафка на пляже [Электронный ресурс]//Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова: [веб-сайт]. URL: http://lib.ru/INPROZ/MURAKAMI/kafka.txt (дата обращения: 26.02.14)
- Тихонова В. A. Массовая культура: к вопросу о сущности понятия//Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 5 (55). С. 19-22.
- Хейзинга Й. Homo Ludens: Статьи по истории культуры/пер., сост. и вступ. ст. Д. В. Сильвестрова; коммент. Д. Э. Xаритоновича. Москва: Прогресс -Традиция, 1997. 29 с.
- Хейзинга Й. HOMO LUDENS: в тени завтрашнего дня/пер. с нидерл. В. В. Ошиса; общ. ред. и послесл. Г. М. Тавризян. Москва: Прогресс: Прогресс-Академия, 1992. 458, [2] с.