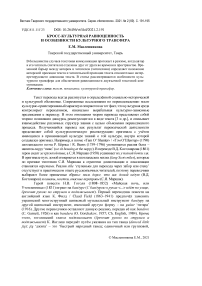Кросс-культурная равноценность и особенности культурного трансфера
Автор: Масленникова Евгения Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории и практики перевода
Статья в выпуске: 2, 2021 года.
Бесплатный доступ
В большинстве случаев текстовая коммуникация протекает в режиме, когда автор и его читатель (читатели) отделены друг от друга во времени и пространстве. Временной барьер между автором и читателем (читателями) определяет положение авторской проекции текста и читательской проекции текста относительно интерпретирующего диапазона текста. В статье рассматриваются особенности культурного трансфера для обеспечения равноценности двуязычной текстовой коммуникации.
Текст, понимание, культурный трансфер
Короткий адрес: https://sciup.org/146282290
IDR: 146282290 | УДК: 811.111'23 | DOI: 10.26456/vtfilol/2021.2.191
Текст научной статьи Кросс-культурная равноценность и особенности культурного трансфера
Текст перевода всегда реализуется в определённой социально-исторической и культурной обстановке. Современные исследования по переводоведению носят культурно-ориентированный характер и опираются на тот факт, что культурная среда контролирует переводчиков, изначально вырабатывая культурно-зависимые предписания к переводу. В этом отношении теория перевода представляет собой теорию понимания дискурса, реализующегося в виде текста [3 и др.], и описывает взаимодействие различных структур знания с целью объяснения переводческого процесса. Получающийся перевод как результат переводческой деятельности представляет собой культурологическую реконструкцию оригинала с учётом имеющихся в принимающей культуре знаний о той культуре, внутри которой создавался оригинал. Например, в поэме «Tam O’ Shanter» / «Тэм О’Шентер» (1790) шотландского поэта Р. Бёрнса / R. Burns (1759–1796) упоминается реалия быта – напиток nappy ‘пиво’ ( we sit bousing at the nappy ). В переводе В.Д. Костомарова (1861) герои сидят за кружкой пива , а С.Я. Маршак (1950) усаживает их у полной бочки эля . В оригинале путь домой измеряется в шотландских милях ( lang Scots miles ), которые по причине тяготения С.Я. Маршака к стратегии доместикации и локализации становятся вёрстами . Реалия stile ‘ступеньки для перехода через забор или стену’ отсутствует в практическом опыте русскоязычных читателей, поэтому переводчики выбирают более привычные образ ы: пыль дорог, что нас домой ведут (В.Д. Костомаров) и канавы , мостки , опасные переправы (С.Я. Маршак).
Герой повести Н.В. Гоголя (1808–1852) «Майская ночь, или Утопленница» (1831) играет на бандуре (С бандурою в руках <...> идёт по улице, бренчит рукою по струнам и подплясывает). Первый переводчик повести на английский язык К. Филд / Claud Field (1863–1941) предпочёл заменить украинский многострунный щипковый музыкальный инструмент бандуру на другой щипковый инструмент, имеющий другую форму – на guitar ‘гитара’ (1916). Другие переводчики оставляют данную реалию, передав её как bandore (C. Garnett, 1926) и как bandura (O. Gorchakov, 1957; Ch. English, 1984). Кроме этого, гоголевский глагол подплясывает (бренчит рукою по струнам и подплясывает) К. Инглиш передаёт путём указания на тип танца (danced little jig): jig ‘джига’ – это ‘быстрый народный танец; одиночный или групповой, мужской или женский’. На первый взгляд, трудно установить прямые связи между английским быстрым народным танцем jig и чечёткой. В романе «You’re Dead without Money» (1972) Дж. Чейза / J.H. Chase (1906–1985) вор заключает удачную сделку с бизнесменом и поэтому испытывает желание сплясать джигу (He was so elated that he wanted to dance a jig). Возможно, что Н. Ярош в своём переводе «Ошибка зловещей клики» (1994) исходит из популярности танца среди представителей русского криминального мира (см. «Аполлон среди блатных» В. Шаламова): Он был в таком восторге, что хотел отбить чечётку.
Понимание как активная интерпретирующая деятельность предполагает выбор из множества альтернатив: «прогресс искусства понимания можно видеть в расширении свободы каждого отдельного человека при выборе своего “параметра”, своей позиции на шкале альтернатив» [3: 118]. Доинтерпретирование заключается «во вкладе интерпретатора в создание значения» [2: 29]. Читатель фиксирует проекцию текста, исходя из действующего в момент обращения к нему принципа «что–есть–текст–для–меня–здесь–и–сейчас».
Понятие «культурный трансфер» тесным образом соотносится с типами отношений, в которые могут вступать языки и культуры [6: 120]: 1) язык и культура текста оригинала близки языку и культуре текста перевода; 2) язык текста оригинала не имеет родственных связей с языком текста перевода, но культуры текста оригинала и текста перевода развиваются параллельно; 3) язык и культура текста оригинала и язык и культура текста перевода являются типологически разными; 4) родственные друг другу язык текста оригинала и язык текста культуры представляют разные культуры. Понятие «культурный трансфер», связанное с передачей национально-специфических предметов, объектов, ситуаций, ценностей и т.д., намного шире, чем простое описание способов воспроизведения лексических единиц, передающих фоновую информацию, так как подобный трансфер предполагает в первую очередь перемещение текста в иную культурную среду. О перспективах исследования перевода как культурного трансфера в [1; 7; 8; 10; 11 и др.].
Определение переводчиком «своей позиции» относительно интерпретирующего диапазона текста способно привести не только к культурному трансферу ценностей и т.д. исходной культуры, нашедших воплощение в тексте, но и к переосмыслению концептуальной схемы оригинала в целом. Современные переводчицы О. Уайльда / O. Wilde (1854–1900) дописывают эпизоды за автора: в переводе сказки «The Happy Prince» / «Счастливый принц» (1888) ангел заглянул в магазин ювелира и собирается подарить принцу и ласточке мешок рубинов, два мешка сапфиров и три мешка золота (Л.С. Шутько, 2010), а в переводе сказки «The Devoted Friend» / «Преданный друг» (1888) вдруг рассказывается о бедном детстве главных героев (В. Гетцель, 2010).
Возможны изменения в концептуализации отдельных предметов и объектов: герой повести Н.В. Гоголя использует в ласковом обращении к любимой образ красной калины (О, не дрожи, моя красная калиночка!), где цветовой эпитет красный сочетается с названием дерева калина, которое традиционно в народных обрядах и песнях славян связано с любовью и нежностью, тайными свиданиями и свадьбой, став частью символики и мифологии [5]. Если К. Филд выбирает нейтральный вариант my darling ‘моя дорогая’(C. Field,1916), то остальные переводчики сохраняют «древесную» символику, используют при этом названия других деревьев – willow ‘ива’ и cherry-tree ‘вишня’: my lovely willow (C. Garnett, 1926; O. Gorchakof, 1957) и my poor little cherry-tree (Ch. English, 1984). Отметим, что в английском языке существует выражение wear the willow, имеющее значение ‘горевать по любимому’. Таким образом, традиционная проблема определения адекватности / эквивалентности оригинала и его перевода переходит в несколько иную плоскость: адекватность / эквивалентность начинает определяться относительно кросс-культурной равноценности, в том числе в концептуальной сфере.
Кросс-культурная равноценность оригинала и перевода оказывается часто недействительной и недостижимой из-за культурных различий в понимании культурных ценностей, оценок поведенческого сценария, социальных установок и т.д. Подобные суждения о ценностях, сценариях и установках основываются не только на общих сравнениях, но и зависят от индивидуальных систем ценностей. При этом «в художественном тексте осуществляется не индивидуальное языковое представление некого универсального смысла, а представление личностных смыслов в конвенциональных языковых единицах» [9: 4].
Если рассматривать перевод как двуязычную межкультурную коммуникацию, то вероятность межкультурного конфликта здесь велика и никогда не исключается. Из-за культурных различий в значении слов, символов, имён, текстовых отсылок, аллюзий и др., а также допустимости / недопустимости их использования возможно формирование негативных впечатлений от текста. Внешнее непонимание (термин из [4]), связанное с энциклопедическим, культурно-историческим и биографическим контекстами, приводит к неправильному прочтению текста, когда доинтерпретирование начинает его искажать, т.е. к провалу двуязычной текстовой коммуникации. Несмотря на то, что написание слова virgin с заглавной буквы и употребление его с определённым артиклем как the Virgin ( a wall shrine to the Virgin Mother ) допускает единственно возможную трактовку исключительно в религиозном контексте как богородица, мадонна или Дева Мария, в переводе романа «Mission to Venice» (1954) Дж. Чейза на улице calle dei Fabbri появляется загадочная гробница некой Матери Виргилии (С. Вишняков).
Опыт интерпретации текста как проживание - текста - в - себе может приводить к искажению впечатлений от текста, преобразовывающихся в стереотипы непосредственно по отношению к самому тексту, а также к той культуре, из которой текст «вышел». В рассказе “The Apples of the Hesperides» (1940) А. Кристи / A. Christie (1890–1976) детектива Эркюля Пуаро принимает в своём кабинете крупный бизнесмен, восседая за столом из красного дерева ( behind the big mahogany desk ). В Англии мебель именно из красного дерева долгое время считалась свидетельством достатка и высокого социального положения (см. романы «Vanity Fair» У. Теккерея, «Barnaby Rudge» Ч. Диккенса, «Of Human Bondage» С. Моэма и др.). В одном из переводов этого рассказа стол становится столом чёрного дерева (А. Сагаморов, 1991).
СЛОВО в тексте всегда включено в широкую систему контекстов. Нарушение связей, в том числе контекстуальных, внутри Мира слова, Мира текста, Мира автора приводит к «искривлению» этнокультурного Мира текста в целом.
Установки, прошлый (совместно пережитой и прожитой) опыт коммуникантов, которые задают ожидания и прогнозируют вероятность появления новой информации, опираются на образовательный уровень как часть прошлого опыта, тезаурус и фоновые знания. Например, путешествующая на машине героиня А. Кристи из «The Bloodstained Pavement» (1932) носит платье из хлопчатобумажной ткани с рисунком из ярко-красных цветов южно-американского растения пуансеттия ( scarlet poinsettias ). В переводе Е. Фугаровой (1990) на отдыхе женщина носит роскошное алое платье с кружевами .
В определённой степени гендер интерпретатора задаёт направленность интерпретации: так, в первом переводе повести Н.В. Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» / «A May Night» (1916) на английский язык, выполненном К. Филдом, отец обещает дарить дочери не серьги и монисты (Н.В. Гоголь), а ещё больше колец и ожерелий ( yet more rings and necklaces ). В сказке О. Уайльда «The Nightingale and the Rose» (1888) в качестве одной из причин, по которым дочь профессора не будет танцевать на балу с влюблённым в неё студентом, она называет преподнесённые его соперником драгоценности. Титул дяди дарителя ( Chamberlain’s nephew ) допускает три варианта передачи – гофмейстер двора, камергер , казначей , таким образом, в переводах дарителем становится племянник Камергера (Т. и С. Бертенсон, 1909), племянник камергера (М. Ликиардопуло, 1911; М. Благовещенская, 1960; В. Гетцель, 2010), племянник гофмейстера (В. Чухно, 2004), племянник Казначея (Перевод А. Грызуновой, 2010). Дореволюционный переводчик И. Сахаров (1908), наоборот, усиливает социальный статус соперника студента ( племянник герцога подарил мне прекрасные настоящие драгоценности ). Отметим, что в отличие от других переводчиков, которые не конкретизируют названия подаренных драгоценностей ( some real jewels ), в случае с племянником Казначея в переводе А. Грызуновой выстраивается логическая цепочка: он прислал девушке настоящих брильянтов , а как утверждается в песне из фильма «Gentlemen Prefer Blondes» (1953) бриллианты – лучшие друзья девушки ( diamonds are a girl’s best friend ).
Выдвинутые положения о личностных смыслах (А.А. Леонтьев и др.) позволяют говорить о личностных предпочтениях, которые предопределяют ориентацию индивида внутри семиосферы, где ему дана возможность не только выбрать мир для СЕБЯ, по и построить новый мир. Построенный Мир текста может значительно отличаться от исходного, создаваемого автором. Если в рассказе А. Кристи «The Apples of Hesperides» (1940) своей позой внимательно слушающий заказчика Пуаро похож на размышляющую малиновку ( He looked like a meditative robin ), то в одном переводе указано, что он напоминал своим видом восточного монаха в состоянии медитации (Л.П. Симбирцева, 1992).
Выводы. 1. Освоение текстовой действительности происходит в соответствии с коммуникативно-прагматическими установками коммуникантов и предполагает эмоционально-насыщенную переработку информации и авторских смыслов. 2. В тексте представлена совокупность лингвокультурных сценариев. Кроме этого, он несёт в себе культурологическую информацию, репрезентируя модель определённой культурологической среды и систему присущих ей культурных ценностей. 3. По причине утраты способности выйти через СЛОВО на представляемую им систему мотивов и образов, переводчику как первичному читателю текста, созданного внутри одной системы, не всегда удаётся установить дополнительную усложнённость СЛОВА как конвенциональной единицы, в результате чего вторичный читатель получает видоизменённую проекцию исходного текста.
Список литературы Кросс-культурная равноценность и особенности культурного трансфера
- Демьянков В.З. Трансфер знаний и перевод // Язык. Культура. Перевод. Коммуникация. М.: «КДУ», Университетская книга, 2018. С. 18–21.
- Демьянков В.З. Языковая креативность в художественном творчестве // Труды Ин-та русского языка им. В.В. Виноградова. 2016. № 7. С. 29–35.
- Демьянков В.З. Языковые техники «трансфера знаний» // Метод. 2017. № 7. С. 115-136.
- Левин Ю.Д. О типологии непонимания текста // Левин Ю.Д. Избранные труды.. М.: Яз. русской культуры, 1998. С. 581–591.
- Милютина Ю.В. Символика восточных славян // Проблемы филологического образования. Саратов: Изд-во «Саратовский источник», 2019. С. 171–175.
- Найда Ю.А. К науке переводить // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М.: Междунар. отношения, 1978.С. 114–137.
- Новикова Т.Б. Перевод как культурный трансфер // HOMO LOQUENS. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т, 2016. С. 14–22.
- Опарина Е.О. Вопросы теории перевода // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 6: Языкознание. Реферативный журнал. 2018. № 4. С. 99–107.
- Пищальникова В. А., Сорокин, Ю. А. Введение в психопоэтику. Барнаул: Изд-во Алтайск. ун-та, 1993. 209 с.
- Проскурин С.Г. Культурные трансферы и перевод текстов // Язык. Культура. Личность. Барнаул: Алтайский гос. пед. ун-т, 2020. С. 79–88.
- Проскурин С.Г., Санников С.В. Переносы информации во времени и пространстве: культурные трансферы // Критика и семиотика. 2018. № 2. С. 238–249.