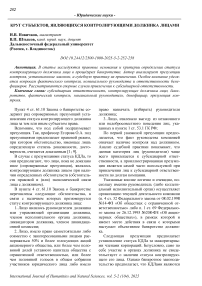Круг субъектов, являющихся контролирующими должника лицами
Автор: Новичков И.В., Штыков В.П.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 5-2 (104), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье исследуются правовые основания и критерии определения статуса контролирующего должника лица в процедурах банкротства. Автор анализирует презумпции контроля, установленные законом, и судебную практику их применения. Особое внимание уделяется вопросам фактического контроля, номинального руководства и ответственности бенефициаров. Рассматриваются спорные случаи привлечения к субсидиарной ответственности.
Субсидиарная ответственность, контролирующее должника лицо, банкротство, фактический контроль, номинальный руководитель, бенефициар, презумпция контроля
Короткий адрес: https://sciup.org/170209374
IDR: 170209374 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-5-2-252-258
Текст научной статьи Круг субъектов, являющихся контролирующими должника лицами
Пункт 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве содержит ряд опровержимых презумпций установления статуса контролирующего должника лица за тем или иным субъектом права.
Вспомним, что под собой подразумевает презумпция. Так, профессор Егорова О.А. под презумпциями предполагает правовой режим, при котором обстоятельство, имеющее лишь определенную степень доказанности, достоверности, считается доказанным [1; 9].
В случае с презумпциями статуса КДЛа, то они предполагают, что лицо, пока не доказано иное (опровержимые презумпции), являлось контролирующим должника лицом при наличии определенных обстоятельств (обстоятельств правовой и (или) экономической связи лица с должником).
В пункте 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве перечислены следующие обстоятельства, в связи с наличием которых презюмируется статус контролирующего должника лица:
-
1. Лицо являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;
-
2. Лицо, имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться 50% и более голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело
-
3. Лицо, извлекало выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, указанных в пункте 1 ст. 53.1 ГК РФ;
право назначать (избирать) руководителя должника;
По первой указанной презумпции предполагается, что факт руководства компанией означает наличие контроля над должником. Анализ судебной практики показывает, что данная категория лиц (руководители) чаще всего привлекается к субсидиарной ответственности, а проиллюстрированная презумпция является самой часто используемой при привлечении лиц к субсидиарной ответственности по долгам компании.
Указанные вполне логично и очевидно, поскольку именно руководитель (либо коллегиальный исполнительный орган) осуществляет организацию текущей деятельности компании (п. 4 ст. 32 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), в рамках которой и имеют место действия в связи с которыми наступает объективное банкротство должника.
Следующая презумпция предполагает установление статуса КДЛа за мажоритарными членами корпораций. Безусловно, само по себе участие в органах должника не свидетельствует о наличии статуса контролирующего его лица. Однако банкротное законодательство предполагает, что КДЛами являются члены корпорации, которые самостоятельно либо совместно с аффилированными лицами имеют 50% и более долей (акцией, паёв) либо голосов при принятии решений на общем собрании должника (п. 5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 №53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее -ППВС №53)).
Установление презумпции контроля лиц, являющихся мажоритариями должника, является абсолютно обоснованным, поскольку такие лица могут принимать основные управленческие решения в корпорации: одобрять сделки, образовывать органы, принимать решение о выплате дивидендов и т.д., что, в свою очередь, и является контролем над должником в чистом виде, а такие действия могут привести (и на практике приводят) корпорацию к несостоятельности.
Вместе с тем Закон о банкротстве содержит презумпцию обратного характера в отношении миноритариев (презумпция отсутствия контроля), которая гласит о том, что не может считаться контролирующим должника лицом при соблюдении следующих двух критериев:
-
а) миноритарий владеющий менее 10% уставного капитала организации;
-
б) лицо получало лишь обычный доход, связанный с владением доли.
Завершающая, третья презумпция предполагает привлечение к субсидиарной ответственности лиц, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица / членов коллегиальных органов юридического лица / лиц, определяющих действия юридического лица.
В соответствии с этим правилом, контролирующим может быть признано лицо, извлекшее существенную (относительно масштабов деятельности должника) выгоду в виде увеличения (сбережения) активов, которая не могла бы образоваться, если бы действия руководителя должника соответствовали закону, в том числе принципу добросовестности (п. 7 ППВС №53).
Двумя самым часто встречающимися сценариями применения данной презумпции является:
-
- привлечение к ответственности лица, которое получило существенный актив предприятия по сделке, совершенной руководством организации в ущерб возглавляемой организации;
-
- построение производственной модели, при которой в группе компаний есть «центр прибыли» и «центр убытков». К субсидиарной ответственности привлекается выгодоприобретатель - компания из группы, аккумулирующая прибыль (центр прибыли).
Примером первой возможной ситуации может служить «перевод бизнеса», что предполагает перенос всех активов и деловых связей, а также перевод работников, из неплатежеспособной организации на другое «чистое» юридическое лицо, у которого отсутствуют долги, для продолжения хозяйственной деятельности в отсутствие риска банкротства и сохранения активов (первоначальной компании).
Так, в одном из дел было установлено, что причиной банкротства должника явилось фактическое прекращение деятельности компании, осуществляющей подрядные работы. Из материалов дела следует, что из организации-должника были уволены все работники и следом приняты в другое общество. Также, общество и должник имеют схожие наименования юридических лиц, общие номера телефона, адрес электронной почты, IP-адрес. Крупный заказчик, сотрудничавший с должником, заключил договор на очередные подрядные работы так же с обществом-клоном.
С учетом указанных обстоятельств суд привлек с субсидированной ответственности по долгам должника компанию, на которую был переведён бизнес, а также руководителей и единственных участников обоих обществ – должника и клона [2].
Опровергнуть раскрываемую презумпцию лицо может, доказав возмездность приобретения активов на обычных для такого рода сделок условиях (условиях, на которых в сравнимых обстоятельствах обычно совершаются аналогичные сделки) (абз. 3 п. 7 ППВС №53).
Ярким примером привлечения к субсидиарной ответственности при использовании в группе компаний бизнес-модели с «центром прибыли» и «центром убытков» является дело о банкротстве ЗАО «РудГорМаш» [3].
В группе компаний было разделение на компанию (центр убытков), осуществляющую производство (должник), и компанию (центр прибыли), осуществляющую реализацию продукции сторонним контрагентам (субсидиарный ответчик). Готовая продукция передавалась должником управляющей компании практически по себестоимости. Выходит, что ответчик (управляющая компания должником – ООО УК «Рудгормаш») аккумулировало у себя прибыль, генерируемую за счет производства группы, а расходы на производство и иные связанные с этим издержки нес только должник, тем самым ЗАО «РудГорМаш» накапливало только убытки.
Вместе с тем, судом установлено, что такого рода махинации имели системный характер и неоднократно воспроизводились в группе: производственные единицы (центры убытков) последовательно сменяли друг друга – накапливая долги, компании банкротились, долги «списывались» и создавались новые организации, у которых отсутствовала какая-либо задолженность.
Данная презумпция так же может быть опровергнута. Ответчику необходимо доказать экономическую целесообразность операций, а выгода обусловлена разумными экономическими причинами (абз. 3 п. 7 ППВС №53).
Из приведенного анализа судебной практики следует, что под существенностью выгоды понимается либо получение сверхприбыли за счет производственных мощностей должника, в отсутствие собственных расходов на производство товаров, либо получение активов и деловой репутации предприятия-должника по ряду неравноценных, возможно, безвозмездных, сделок.
Также важным элементом состава презумпции является несоответствие действий руководителя должника принципу добросовестности .
Итак, третья презумпция является самой сложной по своему предмету доказывания и включает следующие обстоятельства:
-
1) наличие факта извлечения субсидиарным ответчиком выгоды из поведения лиц, указанных в п. 1 ст. 53.1 ГК РФ;
-
2) полученная выгода является существенной;
-
3) получение выгоды произошло в связи с недобросовестными действиями руководства должника;
Однако на практике круг контролирующих должника лиц не ограничивается вышеописанным субъектами. В отечественном правопорядке наблюдается тенденция расширения круга субсидиарных ответчиков [4, с. 33].
Первым на очереди идет вопрос признания статус контролирующего лица за бенефициарами должников, которые хоть и не имеют формальных связей с организацией, однако фактически могут давать обязательные для исполнения должником указания.
Осуществление контроля организации фактически, а не при помощи разнообразных формальных рычагов, является примером иного способа достижения определения действий должника согласно пп. 4 п. 2 ст. 61.10 Закона о банкротстве.
Знаковым делом в направлении признания статус контролирующего лица за бенефициарами является дело о банкротстве ЗАО «Международный Промышленный Банк» (№А40-119763/10).
В рамках данного дела в 2015 году был привлечен к субсидиарной ответственности Пугачев С.В. – бывший член Совета Федерации, которого суд признал лицом, фактически контролирующим банк. Дело стало прецедентным и ключевым в вопросе фактического контроля.
В рассматриваемом споре признаки фактического контроля выразились в следующем: наличие многоуровневой структуры владения банком с использованием офшорных компаний; право контроля за принятием решений через систему доверительного управления; личное согласование основных решений банка; прямое участие в управлении через систему согласования документов; наличие личного кабинета в офисе банка; проведение рабочих встреч с сотрудниками банка [5].
Правовой статус Пугачева С.В. был определен как «Первоначальный протектор» траста, учрежденного по праву Новой Зеландии. Через этот механизм ему принадлежали все права участия в компаниях-нерезидентах, являющихся акционерами российских организаций, владеющих банком [6].
Другим, не менее значимым для судебной практики, является дело о банкротстве ООО
«ИНКОМ» (№ А33-1677/2013). В рамках дела о несостоятельности к субсидиарной ответственности был привлечен Абазехова Х.Ч., являющийся мажоритарным участником ООО «Концерн «РИАЛ», которое являлось единственным участником должника.
Так, в данном деле фактический контроль Абазехова Х.Ч. над ООО «ИНКОМ» в деле о банкротстве проявился в следующих действиях:
-
1. Вывод активов – со счетов должника на счета подконтрольного концерна «РИАЛ» (участником которого был Абазехов Х.Ч.) перечислено 4,2 млрд. рублей под фиктивные поставки зерна, а основные средства проданы по заниженной стоимости;
-
2. Транзитные платежи – концерн «РИАЛ» переводил полученные средства самому Абазехову Х.Ч. в виде дивидендов и займов (более 2,5 млрд рублей), что привело к истощению активов должника;
-
3. Синхронные действия без экономической цели – сделки между ООО «ИНКОМ», концерном «РИАЛ» и Абазеховым не имели разумного коммерческого смысла, но обогащали конечного бенефициара [7].
Таким образом, при установлении статуса контролирующего должника лица применяется отличный от ординарных арбитражных споров стандарт доказывания, при применении которого заявителю достаточно представить лишь разумные предположения (prima facie) относительно роли лица в хозяйственной жизни должника.
Следующей категорией контролирующих должника лиц являются номинальные руководители, которые лишь формально (номинально) входят в состав органов юридического лица, в то время как фактическое управление осуществляет другое лицо (п. 6 ППВС №53).
По общему правилу номинальный руководитель так же несет субсидиарную ответственность, однако суд может уменьшить размер или вовсе освободить лицо от субсидиарной ответственности (п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве).
В одном из недавних дел Верховный Суд РФ пришел к выводу, что возложение ответственности исключительно на номинальных руководителей является неверным, поскольку это нарушает права кредиторов, ведь фор- мально замещающие должность лица, не инициировали действия, повлекшие банкротство, и обычно не имеют достаточного для погашения причиненного вреда имущества. Поэтому к субсидиарной ответственности подлежат привлечению как теневые, так и номинальные контролирующие лица солидарно: первые – поскольку в результате именно их виновных действий стало невозможным погасить требования кредиторов, вторые – поскольку они своим поведением содействовали сокрытию личности действительных правонарушителей [8].
Из приведенного можно сделать вывод, что для правильного разрешения спора о привлечении КДЛ к субсидиарной ответственности нужно установить фактическое руководство компании, а не по формальным признакам привлекать номинального контролирующего лица к ответственности, поскольку только таким образом можно восстановить права кредиторов.
Для этого был выработан механизм прощения номинала, который финансово мотивирует теневого руководитель раскрыть реально контролирующее предприятие лицо [9, с. 27].
Основанием для освобождения номинального руководителя от субсидиарной ответственности или уменьшения ее размера является раскрытие следующих обстоятельств:
-
- Лицо докажет, что в период вхождения в состав органов организации, не оказывало определяющего влияния на деятельность компании (управляло лишь номинально);
-
- Лицо раскроет фактического КДЛ / скрывавшееся КДЛ имущество должника и (или) КДЛ. При этом такая информация должна быть недоступна независимым участникам оборота.
Соответственно, от того насколько действия по раскрытию информации способствовали восстановлению нарушенных прав кредиторов и компенсации их имущественных потерь, будет зависеть освободит ли суд номинала / уменьшит ли размер ответственности.
Решение такого рода вопросов является исключительно дискрецией суда, поэтому выработать наверняка какие-то критерии невозможно – в каждом деле суд применяет индивидуальный подход, а судебная практика не отличается равномерностью при решении вопроса о прощении номинала.
Несмотря на обманчиво кажущуюся складность подходов судов к определению круга субъектов, являющихся контролирующими, в судебной практике имеются и сомнительные категории субсидиарных ответчиков.
Одним из кейсов, вызвавших беспокойство у юридического сообщества, явилось дело о банкротстве потребительского кооператива «Уральская плодоовощная компания», в рамках которого было подано заявление кредитора о привлечении к субсидиарной ответственности внешнего специалиста – юриста, оказывающего юридические услуги должнику на основании гражданско-правового договора.
В рамках обособленного спора на имущество юриста были наложены обеспечительные меры, а также сделан вывод о том, что «с минимально необходимой степенью достоверности можно сделать обоснованные предположения о том, что Вотинова Т.Ю. относится к контролирующему должника лицу» [10].
В конечном счете суд отказал в привлечении юриста к субсидиарной ответственности, поскольку не доказано, что перечисление средств Вотиновой Т.Ю. явилось причиной банкротства [11].
То есть суд не отрицает наличия у внешнего специалиста статуса КДЛа. Выходит, что сам прецедент признания внешних специалистов контролирующими должниками лицами был создан в рамках этого дела [4, с. 35].
Вместе с тем, такой подход суда является ошибочным, поскольку квалифицирующими критериями в вопросе установления статуса КДЛа является: во-первых, обязательность указаний лица для исполнения должником; во-вторых, вовлеченность в процесс управления должником [4, с. 35].
При прочих равных (в отсутствие бенефициарной связи с должником), внешний специалист не может нести по отношению к должнику какую-либо ответственность, кроме договорной.
В рассмотренном деле суд отказал в привлечении к ответственности аутсорс специалиста в связи с отсутствием оснований для возложения ответственности, не опровергнув статуса контролирующего лица.
В п. 33 ППВС №53 предусмотрено, что суд оставляет без движения (в случае не устране- ния возвращает) заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, если заявитель не обосновал и не подтвердил доказательствами наличия у ответчика статуса КДЛа.
Дабы исключить необоснованное рассмотрение судами споров о привлечении к субсидиарной ответственности внешних специалистов, необходимо выносить на предварительном заседании вопрос о наличии статуса КДЛа у ответчика [4, с. 36].
Таким образом, в рамках предварительного разбирательства получится установить является ли лицо надлежащим ответчиком без затяжного исследования оснований для привлечения лица к ответственности, что будет соответствовать принципу процессуальной экономии.
Еще одним крайне спорным делом является банкротство ООО «Альянс» (№ А40-131425/2016), в рамках которого привлекались к субсидиарной ответственности дети директора (по совместительству единственного участника общества) по иску налогового органа.
Податель заявления исходил из того, что дети стали выгодоприобретателями дорогостоящего имущества должника, выведенного директором общества, по безвозмездным сделкам.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций в привлечении сыновей к субсидиарной ответственности отказали, однако ВС РФ отменил судебные акты и отправил спор на новое рассмотрения в первую инстанцию.
Позиция высшего суда неоднозначна. Суд пришел к выводу о том, что дети не являются КДЛами, однако они стали « инструментами для сокрытия принадлежащего родителям имущества ».
Также суд пришел к выводу о том, что дети не могли не знать о вредоносной цели сделок, но вместе с тем считает, что « в силу особенностей отношений несовершеннолетних детей и их родителей, которым обычно присущи, с одной стороны, стремление родителей оградить детей от негативной информации, с другой стороны, повышенный уровень доверия детей к своим родителям ».
Краеугольной идей, своего рода ratio decidendi, в судебном акте является следую- щая мысль: «…возмещение причиненного кредиторам вреда ограничено по размеру стоимостью имущества, хотя и сменившего собственника, но, по сути, оставленного в семье.».
Юристами высказывается мнение, что в данном деле ВС РФ создал новый правовой субъект банкротства – семья, который представляет из себя квазиюридическое лицо или особый правовой режим [12, с. 17].
Кульминацией данного кейса явилось то, что определение ВС РФ нашло свое отражение в периодическом обзоре судебной практики 2020 года [13], а суд первой инстанции при новом рассмотрении дела привлек детей Самыловских к субсидиарной ответственности солидарно с родителями по обязательствам общества в размере 93 111 576,40 руб. [14].
Определение Верховного Суда РФ вышло крайне спорным и противоречивым. На взгляд автора суд допустил грубейшую ошибку привлекая к субсидиарной ответственности лиц, которые не имели контроля над предприятием, более того не предпринимали никаких активных действий для доведения должника до банкротства. Весь судебный акт похож на попытку суда помочь всеми способами восстановить права налоговому органу, который решил прибегнуть к неверному способу защи- ты, что подводит к еще более глубокой проблеме российских правовых реалий – суд не считает себя властью. В данном случае надлежащим способом защиты являлось оспаривание безвозмездных сделок, заключённых с целью сокрытия имущества.
Таким образом, институт субсидиарной ответственности характеризуется значительной степенью судебного усмотрения, что является одновременно его даром и наказанием.
Судебная дискреция позволяет эффективно противодействовать злоупотреблениям и оперативно адаптировать правоприменительную практику к меняющимся общественным отношениям.
С другой стороны, наблюдается тенденция необоснованного расширения сферы применения субсидиарной ответственности, что приводит к привлечению к ответственности лиц, не обладающих признаками контролирующих должника.
Законодателю следует не ограничивать судебную дискрецию, являющуюся важным элементом правовой системы, а определить четкие границы применения положений Закона о банкротстве, исключив возможность произвольного привлечения к субсидиарной ответственности лиц, не имеющих отношения к контролю над предприятием.