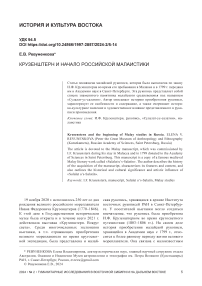Крузенштерн и начало российской малаистики
Автор: Ревуненкова Е.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: История и культура Востока
Статья в выпуске: 2 (68), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена малайской рукописи, которая была выполнена по заказу И.Ф. Крузенштерна во время его пребывания в Малакке и в 1799 г. передана им в Академию наук в Санкт-Петербурге. Эта рукопись представляет собой список знаменитого памятника малайского средневековья под названием «Сулалат-ус-салатин». Автор описывает историю приобретения рукописи, характеризует ее особенности и содержание, а также очерчивает историко-культурное значение и художественное влияние представленного в рукописи произведения.
И.ф. крузенштерн, рукопись, «сулалат-ус-салатин», малаистика
Короткий адрес: https://sciup.org/170205609
IDR: 170205609 | УДК: 94.5 | DOI: 10.24866/1997-2857/2024-2/5-14
Текст научной статьи Крузенштерн и начало российской малаистики
19 ноября 2020 г. исполнилось 250 лет со дня рождения великого российского мореплавателя Ивана Федоровича Крузенштерна (1770–1846). К этой дате в Государственном историческом музее была открыта и в течение всего 2021 г. действовала выставка «Крузенштерн. Вокруг света». Среди многочисленных экспонатов выставки, в т.ч. отражающих приобретения великого мореплавателя во время кругосветной экспедиции, была представлена и малай- ская рукопись, хранящаяся в архиве Института восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге. У посетителей выставки могло создаться впечатление, что рукопись была приобретена И.Ф. Крузенштерном во время кругосветного путешествия (1803–1806 гг.). На самом деле история приобретения малайской рукописи, хранящейся в Академии наук с 1799 г., относится к более раннему периоду жизни великого мореплавателя. Она связана с малоизвестным эпизодом его биографии, который имел, однако, важные последствия для востоковедной науки, прежде всего для изучения культуры стран малайско-индонезийского региона (Нусантары).
После окончания Морского кадетского корпуса И.Ф. Крузенштерн несколько лет служил добровольцем в английском флоте. Заканчивая службу, 28-летний офицер совершал плавание в Китай на фрегате «Oiseau», которое должно было продолжаться с 1797 по 1799 гг. В пути выяснилось, что фрегат требует ремонта, и в июне 1798 г. он был поставлен на стоянку у острова Пинанг на северо-западном побережье Малаккского полуострова. Получив таким образом отпуск, И.Ф. Крузенштерн на местных судах добрался до Малакки, где вынужден был задержаться на 2 месяца, т.к. заболел тропической лихорадкой и продолжать плавание в Китай на отремонтированном фрегате не смог.
И.Ф. Крузенштерн был явно осведомлен об истории Малакки – столицы могущественного султаната, существовавшего в течение XV– XVI вв., в сферу влияния которого входил ряд государственных образований малайско-индонезийского региона. Малакка была оживленным морским торговым портом, поддерживающим интенсивные связи с Китаем, Индией, странами Ближнего Востока. Малакка и Малаккский султанат стали центром развития малайской культуры и просвещения, где высокого уровня достигла придворная литература, обогащенная внутренними и внешними веяниями, прежде всего, со стороны яванской, индо-персидской и арабской культур.
В период расцвета Малаккского султаната в среде образованной элиты возникает обостренный интерес к истории своего государства, к своему прошлому и получает развитие особый жанр исторической прозы, условно называемый в европейской традиции хрониками, историями, анналами. Среди них особенно выделяется произведение, посвященное истории Малаккского султаната и других малайских государств, в котором дух историзма в очень своеобразном преломлении, с несомненной силой художественного воплощения проявился наиболее отчетливо. Таковым является знаменитый памятник малайского средневековья, известный под названиями «Седжарах Мелаю» (наиболее распространенное) и «Сулалат-ус-салатин». В российской малаистике за ним утвердилось название «Малайские родословия». Во время пребывания в Малакке И.Ф. Крузенштерн за- казал сделать рукописную копию именно этого произведения.
Рукопись Крузенштерна называется «Сула-лат-ус-салатин», но помещено это название не в виде заголовка, а внутри текста предисловия. В нем автор произведения, следуя персидской средневековой традиции, называет себя факиром, сознающим свое ничтожество и невежество, и говорит, что по повелению государя сочинил повесть и назвал эту повесть «Сула-лат-ус-салатин», т.е. «Родословия всех правителей». А предназначение этой повести состояло в том, чтобы потомки государей знали о всех обычаях, извлекали бы из них пользу [12, с. 96–97].
Возможно, что И.Ф. Крузенштерн узнал об этом произведении, находясь в Малакке. Но не исключено, что и раньше, во время службы в Англии, до него доносились некоторые сведения об этом произведении, поскольку в научных кругах Европы уже в середине XVII – начале XVIII вв. оно было известно как лучшее произведение для изучения малайского языка и малайской истории до прихода португальцев.
После выздоровления И.Ф. Крузенштерн, взяв с собой сделанную по его заказу рукопись, на различных судах самостоятельно добирался до Кантона, куда прибыл 19 ноября 1798 г. Служба его в британском флоте закончилась, и он возвратился в Петербург, где передал рукопись в Академию наук. С 1799 г. начинается история движения малайской рукописи внутри академических учреждений Петербурга. Восстановила эту историю и дала подробное архивное описание рукописи А.М. Куликова – научный сотрудник Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР (сейчас – Институт восточных рукописей РАН). Сначала Крузенштерн, скорее всего, передал эту рукопись академику Федору Ивановичу Шуберту (1758–1825), который в 1802 г. подарил ее Библиотеке Академии наук, сопроводив рукопись описанием, полученным от И.Ф. Крузенштерна, что зафиксировано в «Протоколах заседаний конференции Императорской академии наук от 13 октября 1802 г.» (на французском языке): «Коллежский советник и кавалер Шуберт подарил библиотеке историческую рукопись, содержащую легендарную индийскую хронику, начиная с Александра Великого, написанную на малайском языке, арабской графикой по приказу Alla-Eddin’a – правителя Atchien. Этот дар был принят с признательностью и будет поме- щен дарителем в академическую библиотеку» (Цит. по: [7, с. 162–163]). В 1818 г. рукопись под названием «История малайцев» была передана в только что образованный Восточный кабинет во главе с академиком Христианом Даниловичем Френом (1782–1851). На форзаце первого тома (л. 1106 европейской пагинации) имеется надпись на немецком языке готическим шрифтом, сделанная рукой Х.Д. Френа: «“История малайцев с древнейших времен до завоевания Малайи португальцами”. На малайском языке. Во время своего пребывания в Малайе в июле 1798 коммодор Крузенштерн при особой любезности официальных лиц получил разрешение скопировать рукопись этой истории, которую очень высоко ценили. Он послал эту копию в Академию наук в Санкт-Петербурге».
Рукопись состоит из двух томов: 1-й том – 106 листов, 2-й том – 86 листов. Размер листа – 26,5 х 20,9 см. Пагинация европейская, поздняя, и проставлена карандашом. Бумага европейского производства (Амстердам) с филигранью, «J. Honig Zoonen». Дата изготовления бумаги – 1794 г. (водяной знак). Бумага и текст прекрасно сохранились. Переплет поздний, изготовлен из плотного картона, обернутого мраморной бумагой, корешки кожаные, с золотым тиснением. Текст написан с обеих сторон листа на малайском языке разновидностью арабской графики насх . В конце первого тома поставлена дата 1213 г. хиджры, что соответствует июлю 1798 – маю 1799 г. [6; 7].
Можно дополнить это описание несколькими комментариями. В оригинале малайской рукописи пагинации нет. Ее функцию выполняют расположенные внизу каждой страницы кустоды, что характерно для средневековой рукописной традиции Востока и Запада. Текст написан черной тушью, но имеются многочисленные слова и предложения, выделенные красной тушью. К ним относятся арабские изречения; имена султанов и легендарных героев; слова, обозначающие «рассказ» (al-kissah), т.к. произведение состоит из 34-х рассказов; слова, обозначающие начало каждого рассказа или абзаца; cлова, выполняющие функции знаков препинания, слова-ритмизаторы. Судя по разнице почерка, над текстом трудились три переписчика. Ахмат Адам, видный исследователь и издатель малайских рукописей, почетный профессор Университета Малайя, установил имена этих переписчиков, которые написаны в конце первого тома рукописи: Мухаммад Та- хир аль-Джави, Мухаммад Закат Лонг, Ибрахим Джамрут [18, c. 151]. Видно, что переписчики торопились, чтобы успеть за 2 месяца создать список этого объемного произведения. Нередко пропущены слова и целые фразы. Иногда, наоборот, встречаются повторы слов и словосочетаний. В ряде случаев повторы можно объяснить сменой переписчиков и стремлением исправить ошибки, повторив написание слов и целых предложений 2–3 раза. Немало зачеркнутых слов, дописанных поверх букв и слов, которые были пропущены или не уместились на строке. В тексте много арабизмов – арабских и персидских слов, изречений, стихотворных строк. Само название произведения – «Сула-лат-ус-салатин» – арабское, однако видно, что переписчики не очень хорошо знали арабский язык. Как правило (но не всегда), арабские выражения или стихи сопровождаются переводом или пересказом на малайский. При этом в некоторых случаях малайские парафразы арабских изречений и отдельных индо-персидских стихотворений не соответствуют оригиналу [12, с. 13–17].
Сведения о рукописи, приведенные Ф.И. Шубертом и Х.Д. Френом, могли быть получены только от самого И.Ф. Крузенштерна. В сопроводительной записи Ф.И. Шуберта названо имя султана Ала-уд-Дина из государства Аче (северо-западная оконечность Суматры), по просьбе которого в 1021 г. хиджры создавалось это произведение. В данном случае Ф.И. Шуберт следовал словам И.Ф. Крузенштерна, который, в свою очередь, высказал то, что написано в предисловии рукописи: «Так говорится: случилось это в 1021 год хиджры Пророка – да благословит его Аллах и да приветствует! – … в царствование почившего в Аче светлейшего султана Ала-удДина Риайят Шаха – тени Аллаха в сем мире … Повеление государя гласило так: “Я прошу бен-дахару1 составить малайскую повесть обо всех обычаях, чтобы потомки наши, которые придут после нас, помнили бы их и чтобы извлекали бы из них пользу”» [12, с. 96–97]. Скорее всего, здесь идет речь об Алла-уд-Дине Риайят Шахе III (правил с 1597 по 1615 гг.), султане Джохора (южная часть Малаккского полуострова), взятом в плен и увезенном в Аче. Быстро возвысившиеся и соперничавшие друг с другом после завоевания Малакки португальцами, государства Джохор и Аче во многом унаследовали традиции Малаккского султаната и стали центрами малайской культуры и мусульманской образованности.
В автографе академика Х.Д. Френа на форзаце первого тома рукописи сказано, что разрешение сделать копию произведения было получено «при особой любезности официальных лиц». Действительно, подобного рода произведения было нелегко приобрести, т.к. они считались собственностью султанов или священнослужителей высокого ранга. Поэтому заслуга молодого Крузенштерна, который, преодолев немало препятствий, смог заказать для себя рукопись памятника, имеющего огромное культурно-историческое значение, особенно велика.
Первоначальный вариант этого произведения, созданного в Малакке в период расцвета Малаккского султаната, не сохранился. Оно известно в различных версиях и вариантах более позднего происхождения, созданных в Джохоре, где воспоминания о былом величии Малакки продолжали стимулировать развитие малайской культуры. Знаменитое произведение «Сулалат-ус-салатин» или «Седжарах Мелаю» было не только воссоздано, но и подверглось ряду изменений и дополнений. Самое главное из них – описание завоевания Малакки португальцами. Так возникла вторая редакция этого памятника, датируемая 1021 г. хиджры или 1612 г. по христианскому летоисчислению. Все известные до недавнего времени списки этого произведения, находящиеся в библиотеках и архивах разных городов мира – Джакарты и Сингапура, Лондона и Манчестера, Лейдена и Амстердама, являются более полными или сокращенными вариантами второй, т.н. джохорской его редакции. К этой же редакции относится и список Крузенштерна. Он заканчивается рассказом о том, как Малакка под предводительством Афонсу д’Албукерки была завоевана франками, т.е. португальцами. Поэтому следует внести уточнение к автографу Х.Д. Френа: рукопись представляет собой не только историю малайцев с древнейших времен и до завоевания Малакки португальцами, но и историю этого завоевания.
И.Ф. Крузенштерн не мог знать конкретного содержания рукописи, т.к. первый перевод произведения на английском языке появился только в 1821 г. [26] и был выполнен выдающимся востоковедом Джоном Лейденом, другом знаменитого политического деятеля и ученого, собирателя произведений малайской словесности Томаса Стэнфорда Рэффлза.
Чтобы оценить вклад И.Ф. Крузенштерна в изучение культуры малайско-индонезийского региона, следует дать краткую характеристику произведения, рукописную копию которого он привез в Петербург и передал в Академию наук. Как отмечалось выше, оно создавалось в период расцвета Малаккского султаната. Содержание этого произведения связано с его историей, событиями, происходящими в общественной и государственной жизни султаната, его внутренними и внешними связями – как с другими государственными образованиями Малайского архипелага, так и с Индией, Китаем, Сиамом, Персией, арабским Востоком. Очень большое место занимают в нем генеалогии и родственные связи правителей и их ближайшего окружения – высших государственных лиц (премьер-министров, министров, судей, военачальников, казначеев, начальников портов и т.д.). Подробности внутренней жизни султанского дворца, придворного этикета и церемониала, описания многочисленных интриг придворной и семейной жизни высших государственных чиновников свидетельствуют в пользу того, что анонимный автор этого произведения, скорее всего, был современником и очевидцем многих событий описываемого времени и принадлежал к самым высокопоставленным кругам малайского общества.
Сведения о политической системе государства во главе с верховным правителем – султаном, «тенью Аллаха на земле», и других особенностях государственного и общественного устройства, многочисленные описания придворных ритуалов, дипломатических приемов, городского быта, развлечений, народной обрядности и т.п. делают этот памятник важнейшим источником для изучения эпохи стремительного становления, расцвета и столь же стремительного падения Малаккского султаната и средневековой Малайи в целом. Но подлинно историческое в этом произведении переплетается с мифологическими, сказочными, легендарными сюжетами, реальные события нередко приурочиваются к бытовавшим в то время сказаниям, мифам, легендам, иногда растворяются в них. Ряд мифологических мотивов связан с древними культами, обрядами и поверьями (культом камней, представлением о чудесном рождении героев из растений или от животных, о чудодейственной силе слюны и др.). Многие из них имеют широкие параллели в репертуаре мирового фольклора. К ним отно- сятся мотивы, связанные с представлениями о мировом дереве, о вскармливании человека животным, о змееборстве, о состязания богатырей и женихов, о покинутых младенцах, становящихся в будущем героями, о похищении красавиц и т.д. Мифы, легенды, сказки занимают в этом средневековом произведении на историческую тему такое же место, как реальные исторические события. Выдающийся российский ученый В.Н. Топоров отмечал, что обильное использование фольклорного материала в историческом повествовании является одной из характерных особенностей раннеисторических описаний, прежде всего у Геродота [14, с. 117–119; 15, с. 573], а К.К. Браун – один из исследователей и переводчиков знаменитого малайского произведения – прямо называет его создателя «малайским Геродотом» [21]. Ряд мифологических и легендарных сюжетов этого памятника встречается и в других произведениях малайского средневековья, но в каждом из них – со своим историческим подтекстом [11]. Такое же переплетение реальных исторических событий с сюжетами фольклорного происхождения присуще другим средневековым произведениям Востока и Запада на исторические темы, например, яванским хроникам [20] или скандинавским сагам. Всемирно известный ученый М.И. Стеблин-Каменский определяет характер авторства сочинений подобного рода как «эпический». В нем не осознается разница между описанием реальных событий и их творческой переработкой. В таких сочинениях пути истории и художественного описания еще не разошлись. Тем не менее эти описания воспринимаются как правда, но правда особого рода – «синтетическая», представляющая собой органическое сочетание исторической правды с художественной [13, с. 84]. Поэтому от «Сулалат-ус-салатина», как и от подобных ему исторических произведений, трудно ожидать точности и подлинной достоверности. Его нельзя назвать историческим произведением в современном смысле слова, но оно пронизано многочисленными историческими реалиями, которые подтверждаются при критическом анализе текста в сопоставлении с другими текстами исторического содержания и широким кругом иных источников. Именно так поступают специалисты по древней и средневековой истории малайско-индонезийского региона, у которых этот памятник находится в постоянном научном обращении.
Мифы, предания, легенды, исторические события, родословные высшей знати, подробные описания ритуальной и повседневной жизни в «Сулалат-ус-салатине» сочетаются с фрагментами из более ранних исторических и литературных произведений, эпических сказаний, в т.ч. из заимствованных из других литератур – индийской, персидской, арабской. В памятник в трансформированном виде инкорпорированы части из самой ранней исторической хроники XIV в. «Повести о раджах Пасея». В то же время многие созданные позже произведения малайской исторической прозы либо создавались по образцу «Сулалат-ус-салатина», либо прямо цитировали или заимствовали из него некоторые сюжеты. В этом отношении малайское историческое произведение сходно с русскими летописями, в состав которых книжники включали предшествующие произведения без всякой внешней мотивировки: такова была особенность жанровой структуры летописей [8, с. 61, 91].
В малайском памятнике нашли отражение сюжеты из знаменитого яванского цикла «Сказания о рыцаре Панджи», распространившегося по всей островной и континентальной частям Юго-Восточной Азии [3, с. 94–106; 9; 24, p. 35; 25, p. 227]. Текст памятника изобилует яванскими вкраплениями –поговорками, стихами, подробными описаниями яванской титулатуры, музыкальных инструментов яванского оркестра и других элементов яванской культуры. Я еще вернусь к вопросу о роли яванской культуры и литературы в создании этого произведения в связи с полемикой, разгоревшейся вокруг текстологических проблем рукописи Крузенштерна, между двумя крупнейшими специалистами – Ахматом Адамом и Анри Шамбер-Луаром, французским исследователем и издателем произведений малайской литературы.
Выше говорилось, что в этом памятнике нашли отражение внешние влияния, стимулировавшие развитие малайской культуры. Это касается прежде всего культурных веяний, шедших из Индии и стран мусульманского Востока. В «Сулалат-ус-салатине» нашла завершение трансформация образов Рамы и Лакшмана из древнеиндийского эпоса на малайской почве, долгое время бытовавшего в устной форме. Персидское влияние в памятнике обнаруживается как в упоминании царей из династий Ахеменидов и Сасанидов, персидских городов, цитировании персидских поговорок и двусти- ший, так и в использовании сюжетов и образов иранской литературы. Одним из главных персонажей этого произведения является Искандар Зул-карнайн (Александр Македонский) – герой романа об Александре, который проник в Малайю вместе с мусульманством из арабских и индо-персидских источников. Согласно малайской традиции, нашедшей отражение в памятнике, потомки Искандара Зул-карнайна являются родоначальниками исконно малайских правителей и оказываются таким образом включенными в мир мусульманской культуры. Упоминаются в памятнике «Повесть об Амире Хамзе» и «Повесть о Мухаммаде Ханафии». «Повесть об Амире Хамзе» посвящена дяде пророка Мухаммеда, совершавшего многочисленные подвиги и деяния волшебно-авантюрного характера во дворце Хосрова I Ануширвана из династии Сасанидов. Мухаммад Ханафия, герой второй повести, – подлинный мусульманин, доблестный борец с неверными. Обе повести читают защитникам Малакки перед штурмом города португальцами. Воинственный дух популярных в средневековой Малайе персидских повестей должен был укрепить боевой настрой жителей Малакки.
Созданный в период расцвета малайской культуры и интенсивного развития литературного творчества, этот историко-литературный памятник не только впитал в себя самые разнородные элементы культуры других народов, но и сам явился источником сюжетов ряда литературных произведений, создававшихся в последующие эпохи. Много общих эпизодов имеется в «Сулалат-ус-салатине» и в более позднем знаменитом малайском произведении – «Повести о ханг Туахе». Элементы раннего эпоса, встречающиеся в малайском памятнике, получили самостоятельное развитие и, в сущности, породили новый литературный жанр – историко-героический эпос. Повесть, объединившая легенды и предания о возможно исторически существовавшем адмирале Малакки, была создана в середине XVII в. в Джохоре и воплотила надежды на возрождение когда-то мощного и независимого Малаккского султаната [10, с. 3–10].
«Сулалат-ус-салатин» на несколько веков определил развитие малайской литературы и во многом остается живым и действенным фактором развития современной культуры Малайзии, Сингапура и Индонезии. Исторические герои, мифические персонажи и сюжеты этого памят- ника малайского средневековья продолжают вдохновлять литераторов и деятелей искусства этих стран. Классик современной индонезийской поэзии Амир Хамзах (1911–1946) написал поэму о легендарном адмирале ханг Туахе – одном из главных героев «Сулалат-ус-салатина» и «Повести о ханг Туахе». Поэма стала известна на русском языке в переводе М.А. Болдыревой [2, с. 15–19]. Популярность этого героя в современной Малайзии с годами только растет. О нем снимаются фильмы, осуществляются театральные инсценировки и радиопостановки. И каждый раз трансформация сюжетов и трактовка образов главных героев меняется в соответствии с вызовами времени, в зависимости от преобладающих в данный момент общественных настроений и общего идеологического фона. Издаются целые поэтические циклы и сборники, восходящие к темам и образам выдающегося малайского памятника. Современные сингапурские поэты, пишущие на малайском языке, создали стихи, посвященные Тун Сери Ланангу – предполагаемому автору или редактору знаменитого произведения. В своем творчестве они прибегают ко многим фольклорным образам и сюжетам, нашедшим отражение в этом памятнике. Существуют стихи, посвященные легендарному основателю Сингапура – Санг Нила Утаме, и поэма, в основе которой лежит сюжет представленной в памятнике легенды о нападении меч-рыбы на Сингапур. Популярен в современной Малайзии фильм о любви последнего малаккского султана Махмуда к сказочной принцессе с горы Леданг, снятый по очень распространенному фольклорному сюжету, но приуроченному в памятнике к реальному историческому персонажу [4, с. 58; 5]. Реальные и легендарные предки малайцев присутствуют в повседневной жизни Малайзии и Сингапура в каменных скульптурах, названиях улиц, природных источников, фирм, машин. В одном из центральных парков Сингапура под священным деревом варингин (баньян) стоит деревянный склеп – символическая могила основателя и первого правителя Малакки Искан-дар Шаха. Надпись на могиле представляет собой текст легенды из «Сулалат-ус-салатина» о происхождении названия города. Одной из достопримечательностей современной Малакки является источник с чистой питьевой водой, который носит название в честь персонажа произведения – китайской принцессы Ли По, в XV в. доставленной в жены малаккскому султану.
В «Сулалат-ус-салатине» прослеживается несколько стилевых пластов, но в целом памятник считается образцом высокого стиля малайского классического языка. В этом языке тщательно разработана система обращения к правителю и общения внутри дворцовой элиты. Элементы дворцового языкового этикета сохраняются и в современной Малайзии при обращении к представителям верховной власти [1].
Уже с XVII в. этот выдающийся памятник привлекал внимание как европейских, так и малайских ученых больше, чем какое-либо другое произведение малайского средневековья. В течение XIX–ХХ вв. выявлялись и описывались рукописи, издавались тексты на основе одной или нескольких рукописей, публиковались переводы и подробные пересказы произведения на европейских языках. С середины XIX до начала ХХ в. «Сулалат-ус-салатин» издавался 18 раз [23, р. 219]. Памятник и сейчас находится в центре научных исследований Малайзии. Ему посвящаются специальные конференции и лекции с обсуждением различных дискуссионных проблем филологического, текстологического и историографического характера. В Куала-Лумпуре и Малакке за последние двадцать лет вышло 6 новых изданий памятника [23, с. 218]. Вся эта активная научная деятельность по изучению знаменитого памятника малайского средневековья до начала 2000-х гг. развивалась без учета рукописи Крузенштерна, т.к. она не была известна международному сообществу малаистов. Из зарубежных ученых о ней знал только известный нидерландский филолог Р. Роолфинк. Он хотел использовать ее для создания критического текста «Седжарах Мелаю», над которым работал в 1970-х гг., но в то время рукопись была для него недоступна, а критический текст этого произведения так пока и не создан.
В 2008 г. автором этих строк было издано факсимиле рукописи Крузенштерна с переводом и комментариями [12]. Несмотря на то, что это издание вышло в свет на русском языке, оно было замечено в Малайзии и во Франции. Малазийский профессор Ахмат Адам издал факсимиле рукописи Крузенштерна, сопроводив его текстологическим исследованием и транслитерацией, во многом отличной от предыдущих изданий [17]. По его мнению, рукопись Крузенштерна представляет собой ту же версию знаменитого произведения, что и рукопись из коллекции Т.С. Раффлза под номером 18 [17, p. lхххviii–xcvi], которую выдающийся малаист Р.О. Уинстедт считал самым ранним из всех известных списков «Седжарах Мелаю» [27]. Но этот список датируется 1807 г. С выходом в свет рукописи Крузенштерна, созданной в 1798 г., оказалось, что именно этот список следует считать самым ранним [18, р. 154; 23, р. 219].
Ахмат Адам предложил читать многие слова и выражения текста, написанного в арабской графике, по-явански, а не по-малайски. Одна из его статей так и называется: «“Сулалат-ус-сала-тин”. Новое прочтение» [16]. Ученый подчеркивает особенную роль древней и средневековой яванской литературы в создании этого выдающегося памятника малайской культуры. Он также считает, что все три переписчика рукописи Крузенштерна были яванцами или малайцами, свободно владеющими древнеяванским и санскритом [17, p. xxxix–liv, xcvii–xcviii]. Эти же мысли малайский ученый высказывает в статье, напечатанной в российском научном издании на малайском языке [18]. Он делает вывод, что рукопись Крузенштерна приоткрывает завесу тайны над многими скрытыми в произведении сведениями, большей частью возникшую именно из-за того, что в течение целого века исследователи ошибочно прочитывали написанные в арабской графике слова, выражения или стихотворные строки и неправильно транслитерировали текст на латиницу [18, с. 178].
Анри Шамбер-Луар критически отнесся к идеям малайского профессора [22; 23]. Между двумя учеными возникла острая дискуссия по поводу чтения и интерпретации отдельных мест списка Крузенштерна, его принадлежности к той или иной версии и по многим другим вопросам текстологического и филологического характера. Научная полемика двух ученых нашла отражение в статьях на малайском и английском языках, изданных в России [19; 23]. Несмотря на резкое неприятие подхода малайского коллеги к решению ряда текстологических проблем малайской рукописи Крузенштерна, А. Шамбер-Луар все-таки считает издание и исследование Ахмата Адама в высшей степени полезными, т.к. они побуждают к тщательной работе над неизвестным до последнего времени текстом рукописи с тем, чтобы определить ее место в будущей классификации всех версий знаменитого малайского памятника [23, р. 228].
Так, спустя более двух столетий после того, как молодой офицер британского флота Иван Федорович Крузенштерн представил малай- скую рукопись в Академию наук и заложил таким образом фундамент российской малаи-стики, она вошла в научный оборот, стала достоянием международного сообщества малаистов и открыла новый этап в изучении выдающегося памятника малайского средневековья, который по своему историко-культурному значению и художественному воздействию может стоять в одном ряду с другими известными памятниками письменности Востока, давно завоевавшими мировое признание.
Список литературы Крузенштерн и начало российской малаистики
- Бодрова Ю.В. Некоторые особенности этикетности малайского языка // Этнография, история, культура стран Южных морей: Маклаевские чтения 1995–1997 гг. СПб., 1997. С. 195–198.
- Болдырева М.А. Творчество индонезийских поэтов ХХ в. Амира Хамзаха и Хейрила Анвара. М.: Наука, 1976.
- Брагинский В.И. История малайской литературы VII–XIX вв. М.: Наука, 1983.
- Кукушкина Е.С. Встреча трех красок: немного о своеобразии малайской поэзии Сингапура // Сингапур – перекресток малайского мира. М.: Красная гора, 1996. С. 47–58.
- Кукушкина Е.С. Трансформация образов Ханг Туахa и Ханг Джебата в литературе, культуре и политике Малайзии // Малайско-индонезийские исследования. Вып. ХХI. М.: Экон-Информ, 2019. C. 112–123.
- Куликова А.М. История одной малайской рукописи // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. Вып. VI. М.: Наука, 1970. C. 51–53.
- Куликова А.М. История крузенштерновского списка «Малайских родословий» – «Sejarah Melayu» // Малайско-индонезийские исследования: сборник статей памяти академика А.А. Губера. М.: Наука, 1977. С. 162–167.
- Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М.: Наука, 1979.
- Осипов Ю.М. Яванское сказание на литературной почве Юго-Восточной Азии // Фольклор и этнография. Л.: Наука, 1970. С. 224–229.
- Повесть о ханг Туахе. М.: Наука, 1984.
- Ревуненкова Е.В. Заметки об одном художественном каноне средневековой малайской литературы // Малайско-индонезийские исследования. Вып. XVI. М.: Гуманитарий, 2004. С. 219–225.
- Ревуненкова Е.В. Сулалат-ус-салатин. Малайская рукопись Крузенштерна и ее культурно-историческое значение. СПб.: Петербургское востоковедение, 2008.
- Стеблин-Каменский М.И. Миф. Л.: Наука, 1976.
- Топоров В.Н. О космологических источниках раннеисторических описаний // Труды по знаковым системам. Т. 6. Тарту: Тартуский университет, 1973. С. 106–150.
- Топоров В.Н. История и мифы // Мифы народов мира: в 2-х т. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1980. С. 572–574.
- Adam, A., 2016. Sulalat u’s-Salatin. Suatu Pembacaan Baharu. Dewan Sastera, November.
- Adam, A., 2016. Sulalat uʼs-Salatin. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.
- Adam, A., 2018. Menyoroti teks Sulalat u’s-Salatin tahun 1798: tersilapkah kita membaca Sejarah Melayu selama ini? // Малайско-индонезийские исследования. Вып. ХХ. М.: ИСАА, 2018. С. 151–179.
- Adam, A., 2019. Anri Chamber-Loir’s «One more version of the “Sejarah Melayu”»: a rebutter’s essay // Малайско-индонезийские исследования. Вып. ХХI. М.: Экон-Информ, 2019. С. 197–217.
- Berg, C.C., 1965. The Javanese picture of the past. In: Soedjatmoko ed., 1965. An introduction to Indonesian historiography. Ithaca: Cornell University Press, pp. 87–118.
- Brown, C.C., 1948. A Malay Herodotus. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 12, no. 3–4, pp. 730–736.
- Chamber-Loir, H., 2017. One more version of the «Sejaeah Melayu». Archipel, no. 94, pp. 211–221.
- Chamber-Loir, H., 2019. One more version of the «Sejarah Melayu» // Малайско-индонезийские исследования. Вып. ХХI. М.: Экон-Информ, 2019. C. 218–229.
- Gonda, J., 1947. Lettekunde van Indische Archipel. Amsterdam: Elsevier.
- Hooykaas, Ch., 1947. Over Maleische Literatuur. Leiden: Brill.
- Malay Annals. London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1821.
- Winstedt, R.O. ed., 1938. The Malay Annals, or, Sejarah Melayu. London; Singapore: Malayan Branch of the Royal Asiatic Society.
- Zoetmulder, P., 1965. The significance of the study of culture and religion for Indonesian historiography. In: Soedjatmoko ed., 1965. An introduction to Indonesian historiography. Ithaca: Cornell University Press, pp. 326–343.
- Bodrova, YuV., 1997. Nekotorye osobennosti etiketnosti malaiskogo yazyka [Some etiquette features of Malay language]. In: Etnografiya, istoriya, kul’tura stran Yuzhnykh morei: Maklaevskie chteniya 1995–1997 gg. Sankt-Peterburg, 1997, pp. 195–198. (in Russ.)
- Boldyreva, M.A., 1976. Tvorchestvo indoneziiskikh poetov XX v. Amira Khamzakha i Kheirila Anvara [The works of XXth century Indonesian poets Amir Hamzah and Khairil Anwar]. Moskva: Nauka. (in Russ.)
- Bragiinskii, V.I., 1983. Istoriya malaiskoi literatury VII–XIX vv. [The history of Malay literature of the VIIth–XIXth centuries]. Moskva: Nauka. (in Russ.)
- Kukushkina, E.S., 1996. Vstrecha trekh krasok: nemnogo o svoeobrazii malaiskoi poezii Singapura [The meeting of three colours: a few words about the distinctiveness of the Malay poetry of Singapore]. In: Singapur – perekrestok malaiskogo mira. Moskva: Krasnaya gora, 1996, pp. 47–58. (in Russ.)
- Kukushkina, E.S., 2019 Transformatsiya obrazov Hang Tuaha i Hang Dzhebata v literature, kul’ture i politike Malaizii [Transformation of the images of Hang Tuah and Hang Jebat in the Malaysian literature, culture and politics]. In: Malaisko-indoneziiskie issledovaniya. Vyp. XXI. Moskva: Ekon-Inform, 2019, pp. 112–123. (in Russ.)
- Kulikova, A.M., 1970. Istoriya odnoi malaiskoi rukopisi [The history of one Malay manuscript]. In: Pis’mennye pamyatniki i problemy istorii kul’tury narodov Vostoka. Vyp. 4. Moskva: Nauka, 1970, pp. 51–53. (in Russ.)
- Kulikova, A.M., 1977. Istoriya kruzenshternovskogo spiska «Malaiskikh rodoslovii» – «Sejarah Melayu» [The history of Krusenstern’s manuscript of «The Malay Annals» – «Sejarah Melayu»]. In: Malaisko-indoneziiskie issledovaniya: sbornik statei pamyati akademika A.A. Gubera. Moskva: Nauka, 1977, pp. 162–167. (in Russ.)
- Likhachev, D.S., 1978. Poetika drevnerusskoi literatury [The poetic of early Russian Literature]. Moskva: Nauka. (in Russ.)
- Osipov, Yu.M., 1970. Yavanskoe skazanie na literaturnoi pochve Yugo-Vostochnoi Azii [Javanese story on the literary ground of Southeast Asia]. In: Fol’klor i etnografiya. Lerningrad: Nauka, 1970, pp. 220–229. (in Russ.)
- Povest’ o hang Tuakhe [The legend of Hang Tuah]. Moskva: Nauka, 1984. (in Russ.)
- Revunenkova, E.V., 2004. Zametki ob odnom khudozhestvennom kanone srednevekovoi malaiskoi literatury [Notes on an artistic canon of medieval Malay literature]. In: Malaisko-indoneziiskie issledovaniya. Vyp. XVI. Moskva: Gumanitarii, 2004, pp. 219–225. (in Russ.)
- Revunenkova, Е.V. 2008. Sulalat-us-salatin. Malaiskaya rukopis’ Kruzenshterna i eyo kul’turno-istoricheskoe znachenie [Sulalat u’s-Salatin. Krusenstern’s Malay manuscript and its cultural and historical significance]. Sankt-Peterburg: Peterburgskoe vostokovedenie. (in Russ.)
- Steblin-Kamenskii, M.I., 1976. Mif [Myth]. Leningrad: Nauka. (in Russ.)
- Toporov, V.N., 1973. O kosmologicheskikh istochnikakh ranneistoricheskikh opisanii [On cosmological sources of early historical descriptions]. In: Trudy po znakovym sistemam. T. 6. Tartu: Tartuskii universitet, 1973, pp. 106–150. (in Russ.)
- Toporov, V.N., 1980. Istoriya i mify [History and myths]. In: Mify narodov mira: v 2-kh t. T. 1. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 1980, pp. 572–574. (in Russ.)
- Adam, A., 2016. Sulalat u’s-Salatin. Suatu Pembacaan Baharu. Dewan Sastera, November.
- Adam, A., 2016. Sulalat uʼs-Salatin. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan.
- Adam, A., 2018. Menyoroti teks Sulalat u’s-Salatin tahun 1798: tersilapkah kita membaca Sejarah Melayu selama ini? In: Malaisko-indoneziiskie issledovaniya. Vyp. XX. Moskva: ISAA, 2018, pp. 151–179.
- Adam, A., 2019. Anri Chamber-Loir’s «One more version of the “Sejarah Melayu”»: a rebutter’s essay. In: Malaisko-indoneziiskie issledovaniya. Vyp. XXI. Moskva: Ekon-Inform, 2019, pp. 197–217.
- Berg, C.C., 1965. The Javanese picture of the past. In: Soedjatmoko ed., 1965. An introduction to Indonesian historiography. Ithaca: Cornell University Press, pp. 87–118.
- Brown, C.C., 1948. A Malay Herodotus. Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Vol. 12, no. 3–4, pp. 730–736.
- Chamber-Loir, H., 2017. One more version of the «Sejaeah Melayu». Archipel, no. 94, pp. 211–221.
- Chamber-Loir, H., 2019. One more version of the «Sejarah Melayu». In: Malaisko-indoneziiskie issledovaniya. Vyp. XXI. Moskva: Ekon-Inform, 2019, pp. 218–229.
- Gonda, J., 1947. Lettekunde van Indische Archipel. Amsterdam: Elsevier.
- Hooykaas, Ch., 1947. Over Maleische Literatuur. Leiden: Brill.
- Malay Annals. London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1821.
- Winstedt, R.O. ed., 1938. The Malay Annals, or, Sejarah Melayu. London; Singapore: Malayan Branch of the Royal Asiatic Society.
- Zoetmulder, P., 1965. The significance of the study of culture and religion for Indonesian historiography. In: Soedjatmoko ed., 1965. An introduction to Indonesian historiography. Ithaca: Cornell University Press, pp. 326–343.