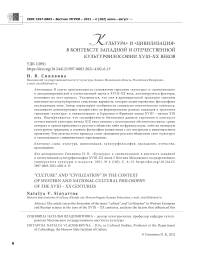"Культура" и "цивилизация" в контексте западной и отечественной культурфилософии ХVIII-ХХ веков
Автор: Синявина Наталья Владимировна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (102), 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье прослеживается становление терминов «культура» и «цивилизация» в западноевропейской и отечественной науке в ХVIII-ХХ веках, анализируются факторы, влиявшие на этот процесс. Указывается, что уже в древнеримской традиции термины имплицитно аккумулировали смысловые варианты, которые акцентировались философами последующих эпох. Автор анализирует особенности социально-политического контекста, оказавшего доминирующее воздействие на формирование разных подходов к трактовке терминов «культура» и «цивилизация» в Германии и Франции конца ХVIII - начала ХIХ века. Подчёркивается, что специфичность бытования данных терминов в контексте отечественной культуры начала ХIХ века связана с несколькими обстоятельствами, среди которых и ориентированность русского общества либо на французскую, либо на немецкую культурную традицию, и влияние философии романтизма с его интересом к национальному прошлому. Результатом этого процесса стало замещение русским обществом слов «культура» и «цивилизация» синонимичным «просвещение».
Культура, цивилизация, культурфилософия, гражданин, отечество, просвещение
Короткий адрес: https://sciup.org/144162194
IDR: 144162194 | УДК: 1(091)
Текст научной статьи "Культура" и "цивилизация" в контексте западной и отечественной культурфилософии ХVIII-ХХ веков
Терминологическая работа по определе-нию/уточнению слов «культура» и «цивилизация», которая началась ещё в период Античности, происходит до сих пор. От эпохи к эпохе прослеживается смена их смыслового пространства, которое могло расширяться или сжиматься. Однако уже в контексте древнеримской литературной и философской традиции термин «культура» аккумулировал те значения (светское, мирское, сакральное), которые выступают доминантными и в сегодняшних его трактовках. Добавление же Цицероном к cultura слова animi обозначило переход в качественно новую реальность, благодаря чему и началось движение в сторону современности. Этот предложенный Цицероном философско-риторический троп задал вектор в формировании собственно идеи культуры в нашем сегодняшнем понимании.
Гуманитарное знание, благодаря работам Л. Февра и Э. Бенвениста, в которых прослеживается история генезиса термина «цивилизация», даёт представление о механизме перехода его из латыни в другие европейские языки и факторах, способствовавших его закреплению в европейских культурах. В частности, в их работах указывается на метаморфозы, произошедшие с термином «культура» во Франции, где он употреблялся ещё в ХV веке. Позже слово было преобразовано в court (‘двор, придворный’) и относилось исключительно к жизни аристократического круга страны. Однако в результате немецкого влияния «культура» вернулась во французский лексикон. Лишь в годы Великой Французской революции, когда особую значимость приобрели социально-политические проблемы и вопрос о возможностях формирования гражданского общества, во французском языке происходит актуализация термина «цивилизация». На протяжении ХIХ века во французской публицистике, а также в научной и художественной литературе происходило семантическое сближение культуры и цивилизации, результатом которого стало превращение их в синонимы. В ХХ веке частотность употребления слова «культура» снизилась, что привело к постепенному его оттеснению на периферию французского лексикона, в том числе и научного дискурса, доминирующее же положение занял термин «цивилизация».
В Германии противоположение данных терминов можно обнаружить со всей оче- видностью уже с конца ХVIII века, что объясняется, прежде всего, сложившейся в этой стране социально-политической ситуацией. Германия, начиная с эпохи Средневековья, была раздроблена и состояла из многочисленных княжеств и герцогств, которые лишь номинально входили в состав Священной Римской империи германской нации. Фактически же они были автономны, говорили на разных языках и диалектах, имели различную форму управления. Несмотря на значимость (территориальную, социально-политическую, экономическую) Германии в составе Римской империи, приверженность большей части Германии протестантизму, сакральным центром государства по-прежнему выступал Рим. То есть единственным фактором консолидации и основой для национальной идентификации здесь выступала немецкая культура. В отличие от пережившей революционные потрясения Франции, которые свидетельствовали о начавшемся процессе формирования гражданского общества как социокультурного явления, Германия пока ничего подобного не знала.
Кроме того, в Германии усиление интереса к национальной культуре было связано и с философией романтизма, формирование которой приходится на рубеж ХVIII–ХIХ веков. Под влиянием И. Г. Фихте романтики переосмыслили понятие «свобода», соотнося его не только со сферой политики, но прежде всего со сферой эстетики. Так, для Шиллера смыслообразующим понятием, точкой отсчёта в философских рассуждениях становится Красота, для Шеллинга – Искусство, а шире – культура.
Этим и объясняется актуализация в немецком лексиконе термина «культура» и фактическое отсутствие в нём слова «цивилизация». Заложенная в этот период тра- диция – противоположение культуры цивилизации – окажет влияние и на немецких культурфилософов второй половины ХIХ – начала ХХ века (в частности, А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, О. Шпенглера). Один из лучших современных исследователей философии и культурфилософии Ницше П. ван Тонгерен предпринял попытку выявить частотность употребления Ницше термина «культура», а также используемые философом синонимы этого слова [10]. В черновиках Ницше встречаются обозначения «метафизика» культуры, «суть» культуры, даже «философия культуры» как название первой части «Человеческое, слишком человеческое», от которого философ позже отказался. Ницше использует многочисленные метафоры, относимые им к слову «культура». «Несвоевременные мысли» свидетельствуют о том, что философ трактует этот термин в духе древних греков, для которых их мир, их полис есть результат единства жизни, усилий, направленных на преображение фюсиса благодаря мышлению. Другими словами, культура для древнего грека (хотя он и не оперировал этим словом) есть итог усовершенствования пространства природы, её преображения. Так трактует культуру и Ницше, ибо, с его точки зрения, культура проявляет себя через единство различных факторов (природноклиматических, социально-политических и пр.). То есть природа и культура выступают для него не противоположными, противопоставленными сферами, а взаимосвязанными, гармонично соединёнными, и их распад он трактует слабостью культуры. Более того, для аргументации своей позиции Ницше нередко использует метафо-ры/сопоставления, связанные с природой («может ли дерево, которому суждено гордо прорастать ввысь, избежать дурной погоды и бурь» [5, с. 50]). Философ подчёркивает, что народ, как носитель культуры, должен быть един, для этого необходимо предпринимать усилие, чтобы не произошло распада на форму/внешнее и содержание/вну-треннее. Таким образом, культура, с точки зрения Ницше, есть ещё и решимость, проявление воли («яд, от которого гибнет слабая натура, есть для сильного усиление – и он даже не называет его ядом» [5, с. 50]).
Русское просвещённое дворянство, склонное в конце ХVIII века ещё к галломании, начинает использовать заимствованное из французских текстов слово «цивилизация» в значении – смягчение нравов благодаря просвещению, воспитание у русского человека гражданских качеств, ибо жизнь гражданина должна быть направлена на устранение неблагополучия в обществе. Основными факторами закрепления данного слова в лексиконе русского дворянства выступают и длительное пребывание армии Александра I во Франции после победы над Наполеоном, и многочисленные поездки в эту страну русских дворян, и чтение просвещённой частью русского общества французской литературы. Переписка русского дворянства 1820–1830-х годов свидетельствует об активном использовании слов «цивилизация» и «цивилизованный» (в конце 1830-х годов в русский язык входит и слово «культура», заимствованное точно так же из французского языка).
Однако о концептуализации данного термина в отечественной научной мысли можно говорить лишь после публикации в 1839 году магистерской диссертации А. Л. Метлинского «О сущности цивилизации и значении её элементов» [4]. Более того, именно с 1840-х годов попытки терминологического определения культуры и цивилизации, их взаимоотношения становят- ся одной из центральных научных проблем отечественной культурфилософии. Об интересе к этому вопросу свидетельствуют и выполненные в 1840–1860-е годы переводы на русский язык «Истории цивилизации Европы» и «Истории цивилизации Франции» Ф. Гизо, «Истории цивилизации Англии» Г. Бокля.
Термин «цивилизация» в русском языке трактовался в значении «гражданское общество», а в начале ХIХ века от него были произведены «гражданин» и «гражданский». Однако в русских словарях эти слова фиксируются лишь в 1850–1860-х годах. Отчасти включение указанных слов в словари с двадцатилетней задержкой можно объяснить спецификой социально-политической ситуации в России на рубеже ХVIII–ХIХ веков: в частности, несколькими указами Павла I, введшими запрет на употребление ряда слов, среди которых «общество», «граждане» (их предлагалось заменить «жителями», «обывателями») и «отечество».
Итак, если во второй половине ХVIII – начале ХIХ века влияние французской культуры на русское просвещённое общество было доминирующим, то в первой трети, а особенно во второй половине, ХIХ века просматривается устойчивая тенденция на увлечённость немецкой философией, следствием чего стало заимствование противоположения терминов «культура» и «цивилизация».
В осмыслении русскими культурфило-софами западноевропейских идей проявлялась одна специфичность, на которую необходимо обратить внимание. Особый фокус видения этих идей подготовлен эпохой Просвещения, в контексте которой был выработан новый подход к трактовке понятий и предложены иные методологические основания их концептуализации.
Этот особый взгляд стал возможен и в связи с влиянием философии романтизма, становление которой было взаимосвязано с борьбой европейских государств с наполеоновской Францией и за независимость (в различных её вариантах – освобождение от протектората, от колониальной зависимости и т.д.). Этим объясняется и ярко проявившееся в романтизме чувство патриотизма (в отличие, например, от классицизма с его ориентацией на античную традицию, для которой проблема национального была не актуальна), что дало толчок к изучению представителями данного направления национальной истории, к организации экспедиций для сбора фольклора, реставрации архитектурных памятников. Проведённая работа позволила предложить новые варианты развития социума и человека, ориентированные на гуманизацию при- роды последнего.
Русские мыслители полагали, что эта цель достижима только с помощью просвещения. Уже А. И. Тургенев начинает заменять французское civilisation русским «просвещение». И. В. Киреевский использует «просвещение» как эквивалент не только цивилизации, но и культуры [2; 3]. Ю. Ф. Самарин подчёркивал, что заимствование термина «цивилизация» связано с европоцентристской тенденцией, обозначившейся в русском обществе ещё при Петре I и усилившейся ко второй половине ХIХ века. По мнению Самарина, предпочтительность употребления в России слова «просвещение» связана с включением в его смысл религиозных контаминаций, о чём свидетельствует, в частности, отнесение слова «просветитель» в литературе Древней Руси к «святителям», чья миссия заключалась в распространении христианства. Западный же термин «цивилизация» от- ражает присущую Европе секуляризацию сознания [8].
Анализируя работу Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869) В. С. Соловьёв подчёркивает, что понятие «культурно-исторический тип», введённое Данилевским, как отражение самобытной культурной общности, противоречит идее всечеловеческой культуры. Он считает, что Данилевский в своей концепции абсолютизирует этнический аспект. Соловьёв указывает, что для Данилевского идея славянства якобы есть высшая цель для всех славян, включая русских, хотя даже славянофилы, с их ориентацией на русскую самобытность, не сводили последнюю исключительно к этнич-ности, а выражали её через концепт «просвещение». Славянофилы «утверждали, что русский народ имеет всемирно-историческое призвание как истинный носитель все- человеческого окончательного просвещения» [9, с. 408]. В частности, А. С. Хомяков главную цель России видел в избавлении Европы от одностороннего развития, поскольку был убеждён, что католицизм следует рассматривать как однобоко понятое христианство [11].
Однако именно Данилевский впервые в отечественной науке предложил концепцию поливариантного развития всемирной истории. Точкой же расхождения представлений о ходе исторического процесса славянофилов и Данилевского выступает отношение к религии. Последний хотя и считает религию одним из факторов в развитии истории, но не рассматривает её как доминирующий. С его точки зрения, религия есть всего лишь одна из составляющих культуры. Для славянофилов же высшим мерилом оценки развития человечества был именно религиозный аспект. В «Записках о всемирной истории» Хомяков представля- ет историю как однолинейный процесс постепенного восхождения человека к постижению Бога [11].
Таким образом, в ХIХ веке в русском культурфилософском лексиконе концепт «просвещение» приобретает статус ядер-ного, что подтверждается многочисленными работами того времени на данную тему (в частности, «Хроника русского» А. И. Тургенева, «ХIХ век» и «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» И. В. Киреевского, «Россия и Европа» В. С. Соловьёва). Более того, можно констатировать, что в ХIХ веке смысловое пространство концепта «просвещение» в границах русской культуры могло быть детерминировано и историко-куль-турным/православным контекстом, и в духе западноевропейской традиции (в этом случае «просвещение» становилось синонимом слова «цивилизация»).
Говоря о православном и западноевропейском контексте, влиявшем на конструирование смыслового поля концепта «просвещение», интересен подход, разработанный Н. К. Рерихом, базирующийся на отечественной культурфилософской традиции и философии Востока. В связи с этим следует указать на несколько моментов, которые взаимообусловлены.
-
• Опора на традиционно русскую трактовку термина «просвещение».
Слово «просвещение» всегда в русской культуре содержало указание на «свет» (выше уже упоминалось о роли «просветителей» в древнерусской культуре, распространявших христианство). Можно вспомнить и об исихазме, одна из целей которого заключалась в возрождении в человеке божественного света, поддержание которого зависело от усилий, от энергии человека. В философии Рериха и эти моменты находят отражение. В частности, с его точки зрения, «тот, кто, несмотря на окружающие затруднения, стремится по этому пути Света, тот выполняет насущную задачу эволюции» [7, с. 49]. Однако под влиянием комплекса идей начала ХХ века Рерих связывает этот путь с творчеством, сопоставляя творца с Богом, а в творческой деятельности видит возможность восхождения к Абсолюту, в Беспредельность.
-
• Эстетическое переживание от созерцания природы.
Человек в древности чувствовал себя частью природы, он зависел от природных факторов (смена времён года, климат), поэтому в древних религиозных системах божества – персонифицированные силы природы. Особенность миросозерцания восточных славян заключалась в эстетизации природного ландшафта, именно Красота выступала одной из главных ценностей. После Крещения Руси это отношение к природе соединилось с христианскими ценностями, дав основание для возникновения представления о системе мироздания, базирующейся на органической связи природы, веры и человека.
Подобное представление станет актуальным и для русской философии начала ХХ века (в частности, для П. А. Флоренского, Н. Ф. Фёдорова, Н. А. Бердяева, Н. К. Рериха, русских космистов), которая ставит в центр научной рефлексии проблему культуры, противостоящей хаосу. Победить хаос может лишь культура, ориентированная на культ, на абсолютные ценности. Рерих обозначает культуру термином «Сад Прекрасный», где на первый план выходит Красота, которую он воспринимает как реальную победительницу жизни. «Духовность, религиозность, подвиг, героизм, доброжелательство, мужество, терпение и все про- чие огни сердца – разве не расцветают они в Саду Прекрасном? Каждое отвращение от Прекрасного, от Культуры приносит разрушение и разложение» [7, с. 82].
-
• Превалирование духа над материей.
Рерих исходит из тезиса о том, что культура и цивилизация есть разные стороны жизнедеятельности человека: культура олицетворяет творческие устремления человека, его желание духовно развиваться, цивилизация же отражает повседневность человека со всем набором материального. Философ подчёркивал, что «именно культура есть сознательное познавание, духовная утончённость и убедительность. Между тем как условные формы цивилизации вполне зависят даже от преходящей моды. Культура, возникнув и утвердившись, уже неистребима» [6, с. 18].
Другими словами, культура, с точки зрения Рериха, есть естественное начало в человеке, дух («культура» от слова «культ»), благодаря которому воспроизводятся духовные аспекты его личности, в то время как цивилизация аккумулирует всё мате- риальное, необходимое человеку в его повседневной жизни, следовательно, она есть искусственное. Оба начала – естественное и искусственное – тесно переплетены между собой. Однако формирование каждого из них проистекает из разного источника, наделено разной сущностью и характеризу- ется различными смыслами.
Таким образом , та часть русских философов, к которым принадлежал и Рерих, находила синонимичность терминов «культура» и «цивилизация» ошибочной, а в их отождествлении видела методологическую ошибку, заключавшуюся в том, что происходило наделение понятия не присущими ему характеристиками и функциями. Кроме того, вполне укладывается в отечественную традицию и переплетение в философии русских мыслителей начала ХХ века идей, сформированных восточной и западной культурами, поскольку Русь – Россия, находясь между Востоком и Западом, относится к «пограничному» типу цивилизаций, выступает своего рода средостеньем Европы и Азии.