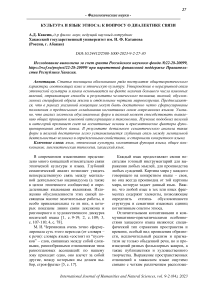Культура и язык этноса: к вопросу о диалектике связи
Автор: Каксин А.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 9-2 (84), 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обоснованию ряда постулатов общетеоретического характера, соотносящих язык и этническую культуру. Утверждение о неразрывной связи этнической культуры и языка основывается на факте наличия большого числа языковых явлений, отражающих способы и результаты человеческого познания, явлений, обусловленных спецификой образа жизни и отдельными чертами мировоззрения. Предполагается, что в рамках указанной концепции могут быть достаточно четко сформулированы положения о предпосылках складывания когнитивных основ современных языков. Указано, что анализ логически обусловленных форм и явлений может способствовать выявлению общих принципов языковой категоризации и таксономии. Изучение подобных явлений и категорий проливает свет на когнитивные основы и прагматические факторы функционирования любого языка. В результате детального семантического анализа таких форм и явлений достаточно легко устанавливается глубинная связь между ментальной деятельностью человека и определенными свойствами, и сторонами конкретного языка.
Язык, этническая культура, когнитивная функция языка, общее языкознание, лингвистическая типология, хакасский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/170200439
IDR: 170200439 | DOI: 10.24412/2500-1000-2023-9-2-27-30
Текст научной статьи Культура и язык этноса: к вопросу о диалектике связи
В современном языкознании представлено много концепций относительно связи этнической культуры и языка. Глубокий семантический анализ позволяет увидеть непосредственную связь между ментальной деятельностью индивидуума (а также в целом этнического сообщества) и определенными языковыми явлениями. Изложению обусловленности этих связей посвящены многие замечательные работы, и особо привлекательны те из них, в которых показаны линии связи лексикона и разговорного и художественного дискурса носителей языка [1, с. 9-19; 2, с. 109; 3, с. 107-110; 4, с. 78].
М. И. Черемисина очень точно сформулировала суть этого перехода (от словаря – к речи): словарь языка «состоит из “кусочков” – слов, связанных между собой сложными, разнообразными отношениями типа разноплановых ассоциаций: по нашему зову приходит одно, оно влечет за собой другие, между которыми мы делаем выбор, строя фразы» [5, с. 17].
Каждый язык предоставляет своим носителям готовый инструментарий для выражения любых мыслей, для производства любых суждений. Картина мира у каждого говорящего на конкретном языке – своя, но она всегда производна от той картины мира, которую задает данный язык. Важно, что любой язык в тех или иных фрагментах содержит элементы, позволяющие определить степень обусловленности структуры и семантики языковых единиц когнитивным опытом этноса.
Отличительными когнитивными и коммуникативно-прагматическими особенностями хакасского языка являются: специфический тип отражения пространства и времени, особый вид проявления образности, исключительный реализм и прагматизм не только обыденной речи, но и произведений разных фольклорных жанров, а также публицистики и художественного творчества. Выражение пространственных отношений в хакасском языке ощутимо связано с четким различением расположе- ния предмета внутри некоторого вместилища и на большой плоскости: об этом можно судить и по чрезвычайной важности в системе языка таких падежей, как местный (что важно, отдельный от направительного) и исходный (продольный). Система ориентиров и определения расстояний строится с учетом приоритетного видения большой и ровной площадки (такой, как ‘степь’) и выдающихся, значимых точек (как вершины и выступы гор и холмов).
В хакасском языке достаточно специфична система пространственного дейксиса - установления локализации объекта относительно говорящего лица. Обычно в языках бывает два указательных местоимения (ср. русск. этот - тот), и очень редко - несколько со-положенных слов для обозначения местоположения объекта по степени близости к говорящему лицу. В хакасском языке отдельными языковыми единицами обозначаются три смысла : близко от говорящего - близко от адресата - далеко (и от говорящего, и от адресата) [2, с. 262].
Специфика усвоения (познания) времени наиболее ярко выражена в разветвленной системе временных форм хакасского глагола, сложность которой начинается уже с различения не-финитных и финитных форм глагола. В хакасском языке, как и в других тюркских, существуют специальные формальные средства, маркирующие релятивность грамматических значений не-финитных форм: это формальные показатели притяжательного типа (выражают релятивистское значение лица и, вместе с тем, относительность времени второстепенного действия). Своеобразие хакасского языка заключается также в том, что в реальном высказывании временная семантика регулярно осложняется со-значениями аспектуального типа: совершенность, законченность, мгновенность (быстрота), повторяемость, длительность / краткость и т. п.
В отношении образности: специфика проявляется, в частности, в том, что в хакасском языке не принята метафоризация образов животных: людей не называют напрямую баранами, сурками, коровами, змеями и т.д. (хотя иногда и сравнивают с животными). Другими словами, в хакасском языке (и в других тюркских языках региона) невозможны словосочетания/ предложения типа русск. А он, собака...! или: Ну, ты, медведь! Но встречаются, хотя и редко, сравнительные обороты вроде хак. адай чÿрек ‘злой, жестокий (о человеке)’ (букв. ‘собаки сердце’). Для рассматриваемых языков характерен другой тип образности: специфические образные (не метафорические) и звукоподражательные слова. Они имеют свои лексические и формальные особенности, и составляют отдельную самостоятельную группу. Эта группа слов не передает выражения чувств и волевых побуждений, а воспроизводит звуки, слышимые в окружающем нас мире, крики, восклицания, некоторые действия и состояния человека, звуки, издаваемые животными, птицами и предметами неодушевленными, условно передает звуками различные двигательные, образные представления человека и т.д. В соответствии с семантикой все подражательные слова делятся на два разряда: звукоподражательные слова и образноподражательные слова. По морфологической структуре подражательные слова делятся на корневые, или односложные (например: ха-ха-ха, муу, мее „.пет и т.д.), и производные, или двухсложные (например: субараан ‘неряха; растрепа’, тал-тацна- ходить ‘как ребенок, едва начинающий ходить’, чикчецнос - обозначение ‘легкомысленно-кокетливой женщины’). Есть также загадки, пословицы и поговорки с использованием сравнений, табуированных слов и эвфемизмов:
Аба інекке харындас нимес ‘Медведь корове не брат’; Абадаң хорыхсаң, тайғаа даа пар полбассың ‘Будешь медведя бояться, и в тайгу не сходишь’; Ханат са-бынминча - ханаттыF хустац асча ‘Крылом не машет, а птицу обгоняет’; Ала пуға па-лыхта мÿн чох, алығ кiзiде сағыс чох ‘У окуня нет [наваристого] бульона, у дурака нет умных мыслей’ [6, с. 20].
Важнейшими понятийными и скрытыми категориями хакасского языка являются категории синкретизма именных частей речи, адъективации, эвиденциальности. В хакасском языке широк и многогранен класс слов именного типа, способных выступать и как имена существительные (быть подлежащими и дополнениями), и как имена прилагательные (быть определениями при существительных), и как наречия (быть определениями при глаголах). Будучи определениями, эти слова примыкают к определяемым словам слева, не принимая никаких показателей. Для них характерна также словообразовательная неопределенность: ине хус ‘птица-самка’, ине аба ‘медведица’, кiс пöрiк ‘соболья шапка’, кiс тон ‘соболья шуба’, сикпен кип ‘суконное пальто’, сикпен öдiк ‘суконные сапоги’. Поскольку классическая таксономия (как частей речи в европейской и русской лингвистической традиции) этих единиц затруднена, можно использовать по отношению к ним термин “синкретичные имена”.
Дополнительно в этом классе слов выделяются функционально-семантические разряды. Первый разряд составляют синкретичные имена, совмещающие функции существительных и прилагательных. От- дельные слова этого разряда можно характеризовать по предпочтительности (первичности) выполнения ими той или другой функции. К примеру, слово кöк в хакас- ском языке осмысляется, прежде всего, как прилагательное (переводится как ‘синий, голубой’), тогда как исторически, в древнетюркский период, оно считалось существительным со значениями ‘небо’ / ‘синева’. Ко второму разряду относятся именные слова, совмещающие две функции: предметную и адвербиальную. Третий разряд составляют имена, способные выполнять три функции: предметную, атрибутивную и адвербиальную. Еще один разряд образуют синкретичные имена, совмещающие две качественные функции: атрибутивную и адвербиальную. Но и без учета имен, выполняющих две или три функции, класс чистых адъективов (т.е. наречий) в хакасском языке очень широк. Вместе с тем в современном хакасском языке происходят процессы, способствующие все более последовательному морфологическому размежеванию именных частей речи, и формальное своеобразие получают, прежде всего, наречия: ср. тiрiг ‘живой’ – тiрiге ‘живьем’, хуруғ ‘сухой’ – хуруға ‘сухо’. Еще одной тенденцией является постоянное пополнение фонда наречий омертвевшими и изолированными формами слов других частей речи.
Таким образом, отношения между языком и мировоззрением включают процессуальный характер познавательной способности, внутреннюю таксономию культурных концептов, закономерности структурно-семантической организации грамматических категорий и словарного состава. Языковые явления, единицы и формы как результат познавательной деятельности этноса составляют его лексикон, набор парадигм и сеть моделей. В живом общении, в динамике эти парадигматические структуры переходят в синтагматические структуры, в интонационно оформленные звуковые цепочки. Рассматривая подобные языковые явления, можно сделать опреде- ленные выводы о связи языка и культуры, о наличии в каждом языке особенных способов концептуализации и категоризации мира. Все они, так или иначе, отражают сложные отношения между языком и культурными концептами. Глубоко спрятанные смыслы, являясь результатом познавательной деятельности этноса, опираются на модели, проистекающие из особенностей мышления. В большинстве своем эти исходные данные, конечно, преломлены в языке, но некоторые явления и формы остаются тесно связанными с характеристиками этнической специфики.