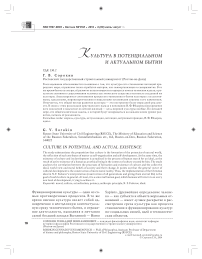Культура в потенциальном и актуальном бытии
Автор: Сорокин Геннадий Вениаминович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (60), 2014 года.
Бесплатный доступ
В исследовании обосновывается положение о том, что культура есть становление потенций природного мира, отражение таких атрибутов материи, как самоорганизация и саморазвитие. В то же время бытие культуры, её развитие актуализируется в процессе поиска человеком идеала, в результате активного существования человека как этического существа в контексте созданной им культуры. Анализируются соотношения процессов становления и бытия культуры с коллективными, идеальными, мировоззренческими и моральными установками социума и его изменением. Отмечается, что общий вектор развития культуры - это построение более моральной реальности. В связи с этим реализация христианского идеала в понимании И. Ф. Фёдорова (воскрешение всех поколений и наделение их вечной жизнью) - цель мировой культуры вообще. По меньшей мере, это общечеловеческая задача, к которой будут возвращаться на каждом новом уровне развития, пытаясь её реализовать.
Мораль, культура, актуализация, потенция, антропный принцип, н. ф. фёдоров, идеал
Короткий адрес: https://sciup.org/14489785
IDR: 14489785 | УДК: 130.2
Текст научной статьи Культура в потенциальном и актуальном бытии
Функционирование культуры — один из самых противоречивых процессов. В то же время именно культура являет собой одновременно и неотделимую контекстуальную среду человеческого бытия, и отражение деятельности, мышления и мечтания самой большой загадки Вселенной — Homo
Sapiens. Древнейшее определение человека — как субъекта и объекта моральных отношений — имеет лучшее раскрытие в рассмотрении среза культуры как процесса становления и функционирования культурно-социальных связей, идей и технологических объектов.
СОРОКИН ГЕННАДИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ — кандидат философских наук, ассистент кафедры истории и философии Ростовского государственного строительного университета (Ростов-на-Дону)
SOROKIN GENNADII VENIAMINOVICH — Ph.D. (Philosophy), Assistant Professor of Department of history and philosophy, Rostov State University of Civil Engineering (RSUCE)
Определение культуры как «второй природы» ориентирует сразу на несколько моментов: 1) на восхождение на более высокий уровень; 2) на роль преобразовательной деятельности человека; 3) на природу как основу культуры и т.д. При этом создаётся впечатление, что человек пребывает в качестве некого творящего из небытия демиурга.
Переход из состояния возможного бытия в реальное, наличное бытие можно обозначить термином «актуализация» (новолат.). Рассмотрение этого процесса восходит к Аристотелю и требует некоторых разъяснений — обычно в философии это слово употребляется как означающее осуществление, переход из состояния возможности в состояние действительности.
«АКТУАЛИЗАЦИЯ (лат. actualis — деятельный, действенный): 1) действие, направленное на приспособление чего-либо к условиям данной ситуации; 2) в субъективноидеалистическом учении — абсолютизация принципа деятельности и отождествление реальности с активностью субъекта; 3) в методологии науки — использование актуали-стического метода (сравнительно-исторического), согласно которому на основе изучения современных процессов можно судить об аналогичных процессах прошлого; в палеонтологии актуалистический метод дополняется данными экологии современного органического мира; 4) в математической логике — построение бесконечности, мыслимой как завершённая, целостная совокупность объектов, актуальная бесконечность (например, множество действительных чисел, заключённых в интервале между числами 0 и 1), в отличие от неактуализируемой потенциальной бесконечности (например, множество натуральных чисел); 5) в политике, дипломатии — реализация, приведение в исполнение идеи, плана; придание степени важности (находящейся в зависимости от степени подтверждения, освещения в средствах массовой коммуникации) явлению или действию» [3, с. 18].
На основе вышеприведённых дефиниций можно зафиксировать, как минимум, два уровня внесения явлений и концептов в поле человеческой культуры:
-
1 уровень. Построение определённого мировоззрения, генерация новых востребованных идей, введение в круг актуальных общественных концепций элиминируемых по различным причинам, обоснование новых ценностей и т.д. Иными словами, придание бытия новому на идеально-духовном уровне как инвариантности.
-
2 уровень. Реализация на основе возможных идей наличного бытия. Это материальные артефакты культуры, действующие традиции, законы, социальные институты и т.п.
Аристотель различал актуальное и потенциальное бытие. Размышляя об этом в «Метафизике», он отдавал предпочтение бытию актуальному. Понятно, что существуют разные возможные потенции, прежде всего неравные по вероятности. Однако как ни мала возможность какого-либо события, актуализируясь, оно указывает на свою потенциальную допустимость в структуре бытия Вселенной.
Для форм движения материи (механика, физика, химия, биология, социум) характерна не только иерархия, но и возможность управления с позиций более высоких иерархий низкими иерархиями. Разум как будто находит эту небольшую вероятность, «нить Ариадны». Разные мыслители по-разному формулировали эту сторону человеческой деятельности, которая является одной из самых существенных: антиэнтропия, «вертикальность» (Н. Ф. Фёдоров), сублимация (З. Фрейд) и т.д. Например, Й. Хейзинга в «Homo Ludens» выделяет игру как сущностную составляющую человеческой культуры. «Арена, игральный стол, магический круг, храм, сцена, киноэкран, судебное присутствие — все они, по форме и функции, суть игровые пространства, то есть отчуждённая земля, обособленные, выгороженные, освящённые территории, где имеют силу свои особые правила. Это временные миры внутри мира обычного, предназначенные для выполнения некоего замкнутого в себе действия. Внутри игрового пространства господствует присущий только ему совершенный порядок» [10, с. 29]. Но за внешним проявлением можно найти более существенную часть. «Отметим, что в своём труде Й. Хейзинга несколько раз обращается к игре в кости, тщетно пытаясь определить сущность этого проявления игры. А ведь это в высшей степени интересная ситуация именно ввиду своей абстрактности и нена-груженности посторонним содержанием» [7, с. 130]. Способность к приведению физической причинности в состояние неустойчивого равновесия — один из главных атрибутов человеческой деятельности. В случае с костями — выигрывает тот, чья игра наименее вероятна. Такое состояние можно определить как «свобода». У Гегеля мировой дух движется к абсолютной свободе. Культуру можно определять и как деятельность по освобождению человека. И. Кант в «Критике способности суждения» даёт одно из самых глубоких, на наш взгляд, определений культуры: «Развитие способности разумного существа ставить перед собой любые цели вообще (следовательно, в его свободе) есть культура. Только культура может быть последней целью…» [4, с. 130].
А вот что пишет известный отечественный мыслитель Николай Фёдорович Фёдоров: «В вертикальном положении, как и во всём самовостании, человек, или сын человеческий, является художником и художественным произведением-храмом... Это и есть эстетическое толкование бытия и создания, и притом не только эстетическое, но и священное. Наша жизнь есть акт эстетического творчества . Первый подъём, или вертикальное положение, или же востание сынов, вызванное смертию отцов, есть положение трагическое; это этико-эстетическое толкование создания человека Богом чрез самих сынов человеческих. История и есть создание страждущего, измученного <не божества, а> человечества» [8, с. 130]. Для Фёдорова горизонтальное положение
— символ смерти, вертикальное — жизни. Однако в вертикальном положении человек не только «антиэнтропиен», но устремлён вверх, к идеалу. У Фёдорова это реализуется в представлениях о душах отцов, живущих на небесных телах. «Супраморализм», сверхэтика требует, по Фёдорову, оживления умерших поколений.
Н. А. Бердяев определяет сущность культуры, исходя из собственного мировоззрения. Это понимание феномена культуры является актуальным сейчас и освещает некоторые важные для нас аспекты. По его мнению, «вся культура есть объективирование мистических “переживаний”. Вся культура развивается из культа, это исторически и научно установлено; культ же есть объективирование религиозной мистики, и в нём нет никакой рационализации» [2].
По мнению Лосева, зародившаяся в Новое время либеральная идеология ненавидит и отрицает бога. «Отрицать Бога имеет смысл лишь тогда, когда человек сам хочет сесть на место Бога, когда он сам хочет стать Богом… Убить Бога и занять Его место — заветная мечта человека, лишь немногим более поздняя, чем мечта о всецелом подчинении. Отсюда, если средневековое мировоззрение все называют теологией , то новое мировоззрение точно так же все должны бы были называть сатаналогией …» [5, с. 256].
Но сказать о том, что бога нет, либеральное мировоззрение сразу не может. Поэтому начинает действовать постепенно, путём внедрения неких «еретических» идей. Самая ключевая и опасная идея, по мнению христианского мыслителя, это идея права на собственное существование. «Сказать всё напрям-ки — это значит дискредитировать весь ате-изм…Даже и в церковь, пожалуйста, ходите. Просим одной безделицы: признайте, что вы имеете право на существование… Христианин… мыслит себя не имеющим никакого права на существование. Христианин мыслит себя прахом, пылью, абсолютным ничто… Кроме Бога и помимо Бога нет и не может быть ничего» [5, с. 258].
Таким образом, налицо раз ная бы тий ст-вен ность человека и бога. «Тут непроходимая пропасть между “феодалом” и “либералом”. “Либерал” скажет: “Как? Вы отвергаете науку? Вы хотите жить в антисанитарных условиях? Вы хотите умирать от болезней, которые можно вылечить в несколько дней?”. “Феодал”: “А что вы мне дадите, кроме сытости и физического здоровья?.. Мне нужна свобода духа, ибо грех влечёт за собой болезни и смерть…человек реально действительно ничтожен”» [5, с. 255]. Принятое Лосевым мировоззрение предполагает именно такие выводы из него — он логически и рационально последователен. В боге уже содержится абсолютно всё бытие — потенциальное и актуальное. Прогресс человеческого общества, культуры в этом свете — абсолютно обманчивая идея. Бог выступает единственным актуализатором в сфере придания бытийности, обладая способностью творить даже из небытия.
Идеальное представление в «светской философии» характеризуется требованием к реализации, актуализации мира духовного в мире будущего, а идеалистическое мировоззрение говорит о ненужности или невозможности реализации идеала в «мире дольнем».
Другой известный представитель христианско-идеалистических воззрений Н. А. Бердяев видит проблему соотнесения творческих сил человека, культуры, морали и бога по-своему. «Философия, которая хотела быть целостным познанием, хотела не только познать мир, но и изменить мир. Напрасно Маркс приписывал эту мысль себе, она заключена во всякой подлинной философии. Философия хочет не только узреть смысл, она хочет и торжества смысла… Поэтому самая глубокая, наиболее оригинальная философия открывала за феноменом, явлением — нумен, вещь в себе, за природной необходимостью — свободу, за миром материальным — дух.… Таково падшее время. Но в победе над объективированным временем прошлое и будущее соединяют- ся. Творчество обращено к вечности, к вневременному. Во времени же оно объективируется» [1]. По мнению Бердяева, которое он изложил в произведении «Творчество и объективация», эволюционизм ошибочен: «Дух, который есть свобода, объективируется в историческом процессе, в культуре, но не раскрывается, не обнаруживается в своей экзистенциальности. Творческий огонь духа охлаждается. Объективация есть охлаждение» [1].
Необходимо привести и соображения тех авторов, чьи мировоззренческие установки более соответствуют современной парадигме миропонимания. З. Фрейд в ставшей классической работе «Недовольство культурой» (иногда переводится «Неудовлетворённость культурой») поднимает вопросы соотнесения глубинных мотивов человеческой деятельности с порождённой им культурой, ставит проблемы моральности культур. В то же время он отмечает достижение человека, благодаря собственным усилиям, качественно новой фазы развития.
«То, что человек с помощью своей науки и техники создал на этой земле, где он появился вначале как слабое животное и где каждому индивиду вновь приходится начинать в качестве беспомощного младен-ца…это непосредственное исполнение всех — нет, большинства — сказочных желаний. Всё это достояние он вправе рассматривать как приобретение культуры. С давних времён он сформировал идеальное представление о всемогуществе и всезнании, которое он воплотил в богах. Им он приписывал всё, что казалось недостижимым для его желаний или что было ему запрещено. Стало быть, можно сказать, что эти боги были идеалами культуры. Теперь он очень приблизился к достижению этого идеала, сам стал чуть ли не богом. Правда, лишь настолько, насколько, согласно общечеловеческому суждению, идеалы можно достичь... Человек — это, так сказать, своего рода бог на протезах, поистине величественный, когда он использует все свои вспомогательные органы, но они с ним не срослись и иногда доставляют ему ещё немало хлопот. Впрочем, он вправе утешаться тем, что это развитие не завершается 1930 годом от рождества Христова» [9, с. 222].
Мёрдок даёт несколько десятков культурных универсалий — феноменов, принадлежащих всем культурам. Важнейшие из них — язык, религия, символы, орудия труда, сексуальные ограничения, нательные украшения, подарки.
Таким образом, можно сделать некоторые обобщения — язык будет служить нескольким функциям, религия будет играть, по преимуществу, роль идеального образа желаемого мира. В любой культуре мы сможем найти также праздники, которые на некоторое время приближают этот идеал к повседневности. Вопрос — в придании некоторой «бытийности» неким воззрениям и идеалам.
Маркс определял труд как целенаправленную деятельность, в процессе которой человек реализует свои идеальные представления. В своём знаменитом определении сущности труда он высказал несколько ключевых принципов, которыми руководствуется человек: «Мы предполагаем труд в такой форме, в которой он составляет исключительное достояние человека. Паук совершает операции, напоминающие операции ткача, и пчела постройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых людей-ар-хитекторов. Но и самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил её в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, то есть идеально. Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он осуществляет, вместе с тем, и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий и которой он должен подчинять свою волю. И это подчинение не есть единичный акт»
[6, с. 189]. Мы не будем анализировать сейчас круг опредмечивания-распредмечивания, укажем только на то, что и самые высокие идеи находят своё основание в процессе практической деятельности человека.
Основатель русского космизма Н. Ф. Фёдоров указывал на происхождение культуры из культа почитания умерших отцов. То есть отмечал моральные принципы как доминирующие в становлении культуры. Только по-другому расставлены акценты в его учении — то, что в «классическом» христианстве считалось делом исключительно божественным, у Фёдорова человек должен совершить сам. Правда, бог создал для человека возможность реализовать высший моральный принцип — воскрешение всех умерших поколений.
Несомненно, что реализация человечеством некоторых идеалов в процессе общественно-исторической практики не приводила к «отмиранию» идеальной области (религии, общественной мифологии, утопий и т.д.). В то же время можно сказать об элиминации из этой сферы некоторого конкретного содержания (как уже осуществлённого). Вопрос о границах возможности реализации идеалов человеческой культуры представляется в некоторой степени ненаучным.
Одна из находящихся на границе известного науке знания проблем — проблема так называемого антропного принципа. Как известно, сформулировано две разновидности антропного принципа: слабый и сильный. Большинство современных физиков стоит на позициях слабого антропного принципа, гласящего, что совпадение физических констант и физических условий случайно для возможности существования человека.
Сильный антропный принцип предполагает, что Вселенная, в которой мы живём, «создана» для человека. Подобный подход предпочтителен для религиозно-идеалистической философии, мистики и религии. Уже краткий обзор проблемы указывает на обоснованность полярных подходов. Не- обходимо отметить, что в латентной форме антропный принцип был неоднократно высказан ранее. Например, у Н. Ф. Фёдорова бог сотворил человека, дал ему знание как возможность осуществить воскрешение всех существовавших поколений и заселить ими небесные тела.
Осмысление проблем соотношения существования Вселенной, жизни и разума привёл известного советского учёного И. С. Шкловского к принятию концепции одиночества разума во Вселенной. По его мнению, мы уже обладаем техническими средствами, необходимыми для обнаружения внеземного разума. Но «сверхцивилизации», которые могут менять природную среду своих планетных систем, не обнаружены. «Мы полагаем, что этот вывод (или даже возможность такого вывода!) имеет исключительно большое значение для философии…. Нам представляется, что вывод о нашем одиночестве во Вселенной (если не абсолютном, то практическом) имеет большое морально-этическое значение для человечества. Неизмеримо вырастает ценность наших технологических и особенно гуманистических достижений. Знание того, что мы есть как бы “авангард” материи, если не во всей, то в огромной части Вселенной, должно быть могучим стимулом для творческой деятельности каждого индивидуума и всего человечества. В огромной степени вырастает ответственность человечества в связи с исключительностью стоящих перед ним задач. Предельно ясной становится недопустимость атавистических социальных институтов, бессмысленных и варварских войн, самоубийственного разрушения окружающей среды… Не подлежит сомнению, что диалектический возврат к весьма своеобразному варианту геоцентрической (вернее, антропоцентрической) концепции по-новому ставит старую проблему о месте человека во Вселенной» [11, с. 351—352].
Для античных богов существует только одна качественно отличная от человека черта — бессмертие. Могущество им присуще, но не в абсолютной степени. Они, как и смертные, находятся под властью судьбы. Наиболее тяжёлые моральные проступки в культуре различных народов — необратимые поступки, последствия которых нельзя исправить. Самое необратимое событие для человеческой культуры — смерть. Для утверждения моральных принципов, филигранных, как лезвие бритвы, и венчающих здание человеческой культуры, должна актуализироваться духовная и практическая культура человечества.
В заключение можно отметить несколько моментов. Несмотря на «утопизм» и кажущуюся антинаучность построений основателя русского космизма Н. Ф. Фёдорова, в его аргументации есть глубокие основания. Отметим как те, что находятся в культурных архетипах, так и те, которые можно отнести к науке.
Фёдоров, не поддаваясь на защитные методы той или иной религиозной, идеологической, мировоззренческой системы, смог правильно, на наш взгляд, указать на объединяющий общекультурный принцип — стремление к индивидуальному бессмертию как наиболее глубокий и древний архетипический сюжет для любых форм культуры. В контексте нашего исследования мы указали на то, что культура почти всегда сначала свершается как идея, потенция, а затем переходит в актуальную форму своего существования. Практически все сюжеты, волновавшие людей, «мечтаемые» миры и возможности или воплотились, или близки к осуществлению. Если не воплотится этот дерзновенный помысел человека, он, как минимум, будет оставаться как реализуемая реальность.
Связывает культуру и науку в данном случае сильный антропный принцип. Можно отметить способ, с помощью которого человек реализует свои культурные предпочтения — это строительство мира с различной степенью вероятности. Человек не воспроизводит из ничего, не творит материю из небытия, но реализует некоторые, зачастую самые маловероятные потенции Вселенной. Фёдоров пишет о «собирании» тел умерших из атомов, когда-то им принадлежавших. Безусловно, этот сценарий можно подвергнуть критике, предложить альтернативные варианты и т.д. Но суть от этого не поменяется — это маловероятный, а не невероятный сценарий. А как мы отмечали, человек творит всё менее вероятную действительность, реализуя потенции, лежащие всё глубже и глубже.
Итак, Фёдоров указывает, как минимум, на несколько весьма принципиальных моментов. Это: сверхидея человеческой культуры, антропный принцип (неявно) и, неявно же, способ бытия культуры как развёртывание маловероятных сценариев.
Список литературы Культура в потенциальном и актуальном бытии
- Бердяев Н. А. Творчество и объективация [Электронный ресурс]. URL: http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn012.htm (дата обращения: 24.06.2014).
- Бердяев Н. А. Философия свободы [Электронный ресурс]. URL: http://www.magister.msk.ru/library/philos/berdyaev/berdn001.htm (дата обращения: 28.01.2013).
- Воробьёва С. В, Коршунов Ю. А. Актуализация//новейший философский словарь/сост. А. А. Грицанов. Минск, 1999. 896 с.
- Кант И. Сочинения: в 8 томах. Москва, 1994. Т. 5. 414 с.
- Лосев А. Ф. Дополнения к диалектике мифа//Диалектика мифа. Москва, 2001. 558 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Москва, 1960. Т. 23. 907 с.
- Сорокин Г. В. Античная демократия: свобода как фактор культурогенеза: автореф. дис. на соиск. учён. степ. кандидата философских наук/Сорокин Геннадий Вениаминович. Ростов-на-Дону, 2011.
- Фёдоров Н. Ф. Мировая трагедия//Собрание сочинений: в 4 томах. Москва, 1995. T. II. 544 с.
- Фрейд З. Неудовлетворённость культурой//Собрание сочинений: в 10 томах. Москва, 2007. Т. 9. 607 с.
- Хейзинга Й. Homo Ludens. Москва, 1997. 413 с.
- Шкловский И. С. Вселенная, жизнь, разум. 5-е изд., перераб. и доп. Москва, 1980. 352 с.