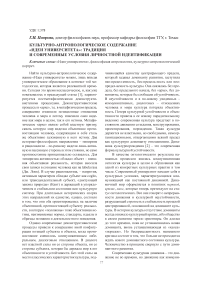Культурно-антропологическое содержание «идеи университета»: традиция и современные условия личностной идентификации
Автор: Петрова Г.И.
Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael
Рубрика: Проблемы высшего образования
Статья в выпуске: S1 (32), 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье аргументируется позиция относительно «Идеи университета», содержание которой непосредственно связано с философским учением о человеке. Возникновение нового культурно-антропологического типа, сформированного в условиях отсутствия культурной доминанты и вынужденного гибко реагировать на изменения внешней среды, обусловило новое содержание «Идеи университета» – ее ориентацию на формирование способности личности к самоорганизации и самоопределению, порождению и конструированию знания.
"идея университета", философская антропология, культурно-антропологический портрет
Короткий адрес: https://sciup.org/142178938
IDR: 142178938
Текст научной статьи Культурно-антропологическое содержание «идеи университета»: традиция и современные условия личностной идентификации
Найти культурно-антропологическое содержание «Идеи университета» можно, лишь вписав университетское образование в контекст той методологии, которая является релевантной времени. Сегодня это время неклассическое, и, как уже показывалось в предыдущей статье [1], характеризуется постметафизическими деконструкти-вистскими процессами. Деконструктивистские процессы в «архе», т.е. в метафизическом пределе, совершенно изменили позиционные отношения человека и мира и потому изменили само видение как мира в целом, так и его истины. Метафизическое «архе» являло собой властную призму, сквозь которую мир виделся объективно противостоящим человеку, содержащим в себе столь же объективно заложенную в него истину. Два историко-философских направления – эмпиризм и рационализм – по-разному видели лишь активную и пассивную стороны в этом стоянии, но само противостояние принципиально оставалось. Для эмпиризма активностью обладал объект – внешняя объективная реальность, которая вносила свои записи в сознание человека как на tabula rasa (Дж. Локк). В случае рационализма, – напротив, активным характером обладал субъект как cogito, или трансцендентальный субъект, «диктующий законы природы» (Кант) и держащий в упорядоченном и стабильном состоянии всю культурную систему. При длительных исторических спорах этих направлений их единство, однако, состояло в том, что они оба ориентировались на наличие объективной, противостоящей субъекту реальности, в которую «положены» тоже объективная истина, неизменяемые нормы, стандарты, идеалы и образцы познания и деятельностного поведения.
Однако современные деконструктивистские процессы привели к совершенно иной конфигурации позиций субъекта и объекта, когда противостояние сменилось коммуникативным либеральным, диалоговым отношением. В диалоге нет властной силы ни со стороны объекта, ни со стороны субъекта, которая бы держала мир в его объективности и устойчивости. Без этой силы на место классических характеристик культуры, под- чиняющейся единству центрирующего предела, который задавал доминанту развития, заступила нео-предел-енность, бес-предель-ность или нео-предел-яемость культуры. Она оказалась без предела, без предельного начала, без «архе», без доминанты, которые бы сообщали ей устойчивость. В неустойчивости и в по-новому увиденных – коммуникативных, диалоговых – отношениях человека и мира культура потеряла объективность. Потеря культурной устойчивости и объективности привела к ее новому парадигмальному видению: современная культура предстает в постоянном движении созидания, конструирования, проектирования, порождения. Такая культура держится не властными, но свободными, самоор-ганизационными, отвергающими всякий предел как культурную доминанту отношениями. Динамика культурпорождения [2] – это современная форма культурной устойчивости.
В качестве онтологического результата названных процессов явилась коммуникативная онтология культуры в целом и образования как одной из конкретных культурных практик в том числе. Современный университет находит себя в культурных условиях, характеризующихся коммуникацией как постоянной динамикой. Динамичный мир оформляется в понятиях переход , кризис , хаос , которые теперь претендуют на статус онтологических. Все они говорят о непрерывности движения и культурной неустойчивости, разрушающей строгость и стабильность прошлой центрированной, основанной на доминанте культуры. В истории культуры отсутствие доминанты всегда означало культурный кризис, ибо общество в своем развитии теряло ориентиры. Он длился до того времени, пока не устанавливалась новая доминанта, вновь устанавливающая из «хаоса» «порядок». Но беспрецедентность нынешнего кризиса состоит в том, что больше не приходится ждать нового доминантного состояния культуры. Человечество в принципе свернуло с пути доминантного развития.
Современная культурная динамика – это движение не во времени, но движение как коммуни- кация, коммуникативное движение. Его линии разнонаправленны, существуя рядоположенно и одновременно, они образуют многочисленные, непрерывно сменяющие друг друга, но рядом сосуществующие локальные ситуации [3]. В итоге в одно и то же время предстает множество разнокачественных образований – культурных проектов, программ, практик, которые не имеют доминанты, необходимой для того, чтобы вокруг нее сформировалась определенная социокультурная организованность. Существуя вместе и легитимно, отвергая возможность культурной селекции, они находятся в сцеплениях, переплетениях и пересечениях, в результате которых конструируются складки различных тематизаций, концептуализаций, актов мышления, суждений по поводу различных объектов или даже одного. В динамике и коммуникации человека и мира конструируются истина, идеалы, образцы и нормы познания и деятельности. Складчатое наслоение множественных культурных пластов легитимирует их в коммуникативном единстве сингулярного существования.
Коммуникативная онтология культуры репрезентирует дискретность и гетерохронность различений, разрывов, переходов, которые, однако, никуда не переходят. Они лишь свидетельствуют о постоянстве движения бытия бытийствен-ной «длительности» [4], «межсубъектности» [5], «межбытии» [6], «полифонической общности» [7]. О современной культуре можно говорить, таким образом, как о культуре бездоминантных коммуникаций, культуре кризиса и хаоса, ибо кризис в ней становится нормой, а хаос репрезентирует порядок.
А что же в этой ситуации человек? Можно ли и необходимо ли в условиях такой культуры сохранять классическое назначение университета по возведению его к Единым и Абсолютным высоким идеалам, этическим нормам и ценностям? И если ранее университету в его миссии возведения безоговорочно доверяли, то в современной ситуации в связи с допустимостью гетерогенности и плюрализма культурных норм и идеалов, постоянно меняющих свои конфигурации, встают вопросы. К какой норме или к какому из всех представших идеалов следует осуществлять возведение? Какой антропологический образ выбрать, чтобы иметь координаты в этом процессе? Можно ли именно университету доверить сегодня адекватную современности интерпретацию антропологического образа и человеческого опыта? И, наконец, может ли именно университет обладать знанием личностной идентичности, релевантной столь сложной современности?
Сложность культуры, обусловливающая неоднозначность современного культурно-антропологического портрета, объясняется упомянутым отсутствием культурной доминанты, того самого «архе», которое превратило бы ее в центрированную организованность. Культурная динамика востребовала в качестве жизненной необходимости человека его самостоятельную и быструю реакцию на гетерогенность окружающих локальных смыслов, истин, правил, норм. В неопределенности и неустойчивости человек потерял тождество по отношению к самому себе, потерял идентификацию и оказался вынужденным в качестве способа своего существования иметь постоянное самоизменение. Его подлинность – не традиционная стабильность и единство идеала, нормы, образца, а подлинность, которая говорит о необходимости их (норм, идеалов, образцов) изменения, подлинность «скольжения» и постоянного «самопорождения» Современный процесс персонификации означает поощрение разнообразия, ломку устоявшейся в истории формы социализации, основывающейся «на минимуме строгости и максимуме желания, минимуме принуждения и максимуме понимания» [8].
Современность, таким образом, свидетельствует «новые симптомы» [9]. Они говорят о возникновении нового культурно-антропологического типа. Его характеристики: «гедонистические ценности, уважение инакомыслия, свобода личности, раскованность, юмор и искренность, свобода мнений» [10]. Все это пришло на смену единообразию правил, всеобщему закону, всеобщей воле, …. всеобщему подчинению и самоотречению. «Исчез мнимый ригоризм свободы», новая личность возведена в ранг высшей ценности, признано… право индивида быть самим собой, «жить свободно, не подвергаясь принуждениям, от начала до конца выбирать свой способ существования» [11].
Когда человек больше не видит смысла в патерналистской опеке и пассивном возведении, университет, конечно, не может не фиксировать в своей «Идее» требования личностной самостоятельности и самоопределения в выборе пути. Надо констатировать, что если у университета останется ранее им выполнявшаяся функция о-предел-ивания личностного движения в единых нормах и идеалах, он будет сдерживать трансформацию «Идеи» в направлении включения в нее новых, релевантных современности философских и мировоззренческих решений.
Идентичность классического университета находится в кризисе. Университет больше не
Культурно-антропологическое содержание «Идеи университета»...
может искать вечные универсалии и иметь их в виду, задавая мировоззренческие или профессиональные абсолюты. Культурная неустойчивость и неопределенность востребовали от него иной ориентации. Они востребовали ориентацию на формирование способности личности к самоорганизации и самоопределению. Материнская опека или патерналистская забота больше не способствуют комфортному и успешному жизненному пути.
Современная «Идея университета» приобретает иную – неклассическую – форму существования. Каковы конкретные направления изменения «Идеи» классического университета в неклассическое время?
Эти направления «снимают» все характерные черты нынешней ситуации в культуре, познании, науке, снимают и происходящие антропологические трансформации. Так, методологическая констатация новых – коммуникативных, диалоговых – отношений в образовании сказывается новыми формами основного педагогического отношения «учитель – ученик», когда трансформируется парадигма возникновения в образовательном процессе знания. Классическая парадигма усвоения знаний, их багажного и энциклопедического накопления, обусловленная противостоянием субъекта и мира в познании и рассматривающая мир в качестве объективно данного, сегодня трансформируется, уступая место парадигме конструирования мира.
В жизненной практике университета это означает, что новая – неклассическая – «Идея университета» – это не «Идея» усвоения высокой истины и не познание фундаментального знания в его абсолютности и объективности, но «Идея» возможности и необходимости их постоянного порождения и конструирования. «Идея университета» принимает ориентацию на формирование способности «культурпорождения» и «само-трансформации» [12]. Такая «Идея» находится в соответствии с методологической установкой современного познания на коммуникативные отношения человека и мира, в которых исчезает целевая деятельность по усвоению внешнего мира в его истине, но обучающийся приобщается к какой-то конкретной концепции, позиции, стратегии по производству знания.
Так проинтерпретированная новая «Идея университета» не противоречит классической, ибо та и другая имеют одну и ту же направленность. Они антропологически обоснованы. Более того, «порождение» не отменяет «усвоения», которое, однако, не становится целевым устремлением университетского образования, но служит ему в его реализации. Поэтому университет и сегодня слышит зов своей классической «Идеи», сохраняет и оправдывает ее. Но это оправдание касается новой ситуации – ситуации неопределенности, нестабильности, коммуникативной динамики.
Список литературы Культурно-антропологическое содержание «идеи университета»: традиция и современные условия личностной идентификации
- Петрова, Г.И. Место университета в мировом образовательном пространстве: возможны ли трансформации его классической «Идеи»?/Г.И. Петрова//Вестник Алтайской акдемии экономики и права. -2013. -Вып. 4 (31). -С. 117-120.
- Гусаковский, М.А. Университет как центр культурпорождающего образования. Изменение форм коммуникации в учебном процессе/М.А. Гусаковский, Л.А. Ященко, С.В. Костюкевич и др.; под ред. М.А. Гусаковского. -Минск: Изд-во БГУ, 2004. -279 с.
- Сайт Центра проблем развития образования Белорусского государственного университета. -URL: www.charko/narod/ru.
- Кряклина, Т.Ф. Образование как фактор развития культур народов Сибири. -Барнаул: Изд-во ААЭП, 2012. -164 с.
- Рубинштейн, С.Л. Бытие и сознание/С.Л. Рубинштейн. -М.: [Б. и.], 1957. -С. 54.
- Батищев, Г.С. Творчество с собственно философской точки зрения/Г.С. Батищев//Наука и творчество. -Ярославль: [Б. и.], 1986. -С. 54.
- Батищев, Г.С.//Там же. -С. 144.
- Батищев, Г.С. Введение в диалектику творчества/Г.С. Батищев. -М.: ИНИОН, 1981. -С 443-447.
- Ортега-и-Гассет, Х. Новые симптомы/Х. Ортега-и-Гассет//Проблема человека в западной философии. -М.: Прогресс, 1988. -С. 57.
- Ортега-и-Гассет, Х.//Там же.
- Липовецки, Ж. Эра пустоты. Эссе о современном индивидуализме/Ж. Липовецки. -СПб.: Владимир Даль, 2001. -С. 40.
- Липовецки, Ж.//Там же.
- Гусаковский, М.А.//Там же.