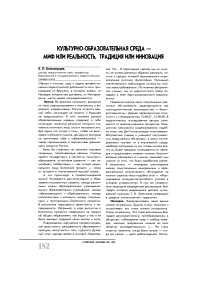Культурно-образовательная среда - миф или реальность, традиция или инновация
Автор: Белозерцев Е.П.
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Современная образовательная среда: традиции и инновации
Статья в выпуске: 1 (7), 2008 года.
Бесплатный доступ
Образование, культурно-образовательная среда, традиции, инновации, общеевропейское образовательное пространство
Короткий адрес: https://sciup.org/14720452
IDR: 14720452
Текст статьи Культурно-образовательная среда - миф или реальность, традиция или инновация
Было бы странным не замечать мировые тенденции, затрагивающие важные стороны нашего государства и, в частности, культуры и образования: устойчивое развитие — как самообман; глобализация — как потеря национального лица; Болонский процесс — отказ от лучшего в отечественной высшей школе.
А что происходит в профессиональной жизни? Усиливается рассогласование в образовании на различных уровнях, между различными типами образовательных учреждений, внутри образовательных учреждений, между «образованцами» и образованными, между интеллигентами и «лохами», между сторонниками и противниками Болонского процесса. В результате нарушаются целостность и непрерывность. Например, в ходе дискуссии о Болонском процессе совершенно не говорят об общем образовании, как будто у нас и не было вековых традиций связи школы и вуза.
Повреждение, нарушение профессиональной целостности, разорванность образования и культуры, лоскутность и того, и другого. Духовный опыт народа является основой образова ния. Но... В переходный период мы не смогли, не успели должным образом раскрыть, постичь и сделать основой национального мировоззрения русскую философию. Потенциал отечественного любомудрия остался во многом невостребованным. По мнению авторитетных ученых, мы из марксистского плена попадаем в плен евро-американского рационализма.
Новейший период науки под влиянием различных обстоятельств характеризуется как «методологическое вольнодумство и безответственность». Данная характеристика относится и к специальностям 13.00.01, 13.00.08. В педагогических исследованиях авторы уклоняются от анализа реальных процессов, большинство занимаются моделированием подобно тому, как Де-Сосюр рождал «семулякры»: абстрактные учащие и учащиеся погружаются в придуманную обстановку, а затем «исследователь» изучает их в виртуальной среде; наиболее послушные из них готовы изучать все, что им будет заказано; отказываются от наследия и придумывают «новые» понятия, безосновательно расширяют их смыслы, заменяют ими многое из того, что было наработано ранее. В результате — очевидное расхождение между замутненными намерениями и парадоксальными результатами; обсуждение на полном серьезе темы подобно этой — «Формирование конкурентоспособного учителя в условиях университета». В том же университете защищена кандидатская диссертация, благодаря которой выдающийся деятель музыкальной культуры Т. Н. Хренников превращен в дидакта отечественной педагогики.
Наследие. Характеризовать наше время можно по-разному. Думать о нем, понимать и осмысливать его тоже можно по-разному. Очень по-разному. Это стало возможным благодаря демократическим преобразованиям в обществе, соблюдению прав и свобод граждан, наличию плюрализма мнений во всех областях жизнедеятельности и... Не стану спорить: выяснять, когда было лучше — тогда или сейчас — дело неблагодарное. Поспо-
рить ради спора, ради поддержания разговора? Ох, как их много стало — ненужных споров и разговоров. Утонули в многоглаголании и гибнем от малоделания. Необоснованное многословие порождается отсутствием бережности к слову, вслед за этим утрата смысла слова и практически полное забытье. Поэтому наше время — время забытых нужных слов.
Одно из них — «наследие». Ныне оно «у всех на устах»: книги, журналы, радио и телевидение вовсю рассуждают об этом. Но тот ли смысл оно имеет вне этой суеты и неразберихи? С. И. Ожегов. «Толковый словарь русского языка»: «Наследие — явление духовной жизни, быта, уклада, воспринятое от прежних поколений, от предшественников».
Очень важно, особенно в наши дни, напоминание о том, что наследие — в первую очередь «явление духовной жизни». Поэтому, даже обращаясь в зримые образы мира материального, наследие имеет своим источником сферу Духа, не теряет с ней связи. И если наследие вообще невозможно понять вне темы духовного, то наше (русское, российское, советское) наследие невозможно понять вне темы православия. Иначе какое же это наше наследие без преподобных Сергия Радонежского и Антония Печерского, Амвросия Оптинского и Серафима Саровского, святителей Димитрия Ростовского и Тихона Задонского и многих других?
Наше нынешнее состояние очень подходит под образ человека с богатейшей библиотекой — часть книг перешла от отца, часть собрал сам. Он неплохо ориентируется в авторах, некоторых даже пытался читать, да бросил — то смысл непонятен, то язык тяжеловат. А зачем они, эти книги-то? Есть своя голова на плечах, вот и буду жить по собственному разумению. А книги — сыну отдам, все-таки наследие.
Вот и живем по «собственному разумению»: блуждая наугад то туда, то сюда, ломая шеи и сбивая колени. И в этих блужданиях умудряемся еще помнить, а иногда гордиться «нашим наследием»! Но наше ли оно? Вспомним: «наследие — явление... унаследованное, воспринятое, обдуманное, осмысленное, пережитое, пропущенное через себя, через ум и сердце, ставшее частью духовного существа».
Сделать «наше наследие» нашим трудно не только в силу объективных причин. Можно просто, стараясь сохранить элементарный смысл и логику, переписать древние (и не очень) тексты в современных категориях и понятиях, что само по себе немаловажно. Но гораздо важнее не утерять, сохранить, унаследовать силу Духа, с которой писали наши предки, которая животворит их труды и которую мы, восприняв от своих отцов, должны передать своим детям, с тем чтобы каждое новое поколение могло воспользоваться образовательным наследием во благо.
Обращение к духовному наследию отечественных мыслителей прошлого позволяет с учетом исторической перспективы предложить решения целого ряда проблем современной педагогики, одна из которых — обновление российского образования — проявляется сегодня в большом разнообразии педагогических подходов, моделей, технологий. К сожалению, процесс этого обновления страдает определенной спорадичностью — новшества интегрируются в школьную и вузовскую жизнь частностями, по отдельности, вне связи с культурными традициями, исторически сложившейся средой.
Кроме того, предлагаемые варианты решения указанной проблемы представляют в большинстве своем попытки проекции на наше общество, на нашу образовательную систему уже готовых, в основном западных педагогических концепций и методик. В современном процессе вестернизации России, в предлагаемых педагогических концепциях и технологиях есть свои плюсы и минусы, но эти инновации не находят в России необходимого культурно-исторического и мировоззренческого основания. Совершенно особенное мировосприятие, веками возраставшее в наших предках, невозможно просто взять и заменить другим в умах и сердцах целого народа. Не отдавая себе в этом отчета, блуждая в потемках, наши «новаторы» продолжают пребывать в уверенности, что если не сегодня, то уже завтра им удастся набрести на чью-то тропу, которая окажется-таки «своей». Но реальность, с которой мы сталкиваемся повсюду — на работе, дома, на улицах и у экранов телевизоров — неумолимо свидетельствует о том, что времени на такие малорезультативные прогулки практически не осталось. Педагогика уже сегодня должна оказать реальную помощь в преодолении переживаемого страной духовного кризиса, и сделать этот она сможет лишь опираясь на многовековой опыт своего народа.
К. Д. Ушинский писал, что воспитание существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ. Исходя из этого, естественно предположить наличие определенной, постоянной во времени этнодоминанты как фундаментального связующего элемента между народом и происходящими в нем социокультурными процессами, в том числе педагогическими.
Исходным понятием в соответствующей методологической процедуре выступает «историко-культурное наследие», подразумевающее современную востребованность любого исторического прошлого. Далее, если мы хотим из этого наследия извлечь «урок» (т. е. получить что-то педагогически ценное, проективное), следует рассматривать его (наследие) как историко-педагогический источник, востребовать в этом качестве. Впрочем, в зависимости от наших конкретных нужд (а они в самом широком смысле известны — преодолеть духовный кризис, обрести духовное здоровье) этот источник можно трактовать не только как историко-педагогический, но и как источник социально-педагогический, философско-педагогический, религиозно-педагогический, литературно-педагогический и т. д. Обязательно педагогический, потому что задачи стоят научения, извлечения уроков, воспитания посредством отчета, прежде всего самим себе, чтобы преодолеть инфантилизм, и, наконец, вырасти, стать взрослыми, превратиться в настоящих профессионалов. Культивирование отношения к наследию как к педагогическому источнику позволяет это наследие «оживить», актуализировать, включить в нашу повседневность, поняв и оценив полножизненность осуществляемых в ней процессов.
Вот и получается, что историко-культурное наследие мы рассматриваем как наследие образовательное, которое по существу — классическое и воспитательное. Классическое потому, что, во-первых, оно представлено общепризнанными трудами выдающихся российских ученых и деятелей культуры, известных богословов, имеющими непреходящую ценность для национальной культуры и образования; во-вторых, в 1960-е гг. наше образование было оценено мировым сообществом как самое эффективное; его изучали, многие идеи и положения использовались при создании и совершенствовании своих национальных систем образования. Таким образом, мы имеем дело с историко-культурным наследием, которое характеризуется как выдающееся, общепризнанное, имеющее непреходящую ценность не только для национальной, но и мировой культуры. Воспитательное потому, что оно имеет поучительный характер, душеполезный смысл.
Месторазвитие. До недавнего времени нам достаточно было понятия местности как части территории, характеризующейся общностью природных, исторических и т. п. признаков.
В последние годы широко используются такие термины, как «районоведение», «райо-нология», «районография», «регионология», «ре-гионалистика», «региональная география», «ре-гионика», «региональное образование» и другие, что иллюстрирует период бурной рефлексии и «размывания» традиционного понятийного аппарата гуманитарного знания.
По мнению авторов учебника «Регионоведение» Ю. Н. Гладкого и А. И. Чистобаева, термин «регионоведение» семантически наиболее точно ориентирует мысль на отражаемое им понятие (по аналогии с такими нашими терминами, как «обществоведение», «востоковедение», «литературоведение» и др.).
Регионоведение — широко востребованная временем область научного знания и практики, имеющая своей целью изучение специфики социально-экономического, политического, культурного, образовательного, этноконфес-сионального, природного, экологического развития относительно целостных территорий, пространств, именуемых регионами. В определении регионоведения наличествует категория «образование».
Соединение воедино географических, исторических, культурных и прочих начал привело к появлению в гуманитарном знании фундаментального понятия «месторазвитие», более емкого по сравнению с географической средой, поскольку оно вбирает в себя исторические и культурные характеристики конкретного региона и наиболее полно отражает процесс пространственно-временного взаимодействия между социумом и вмещающим его ландшафтом.
Сторонники концепции месторазвития признают множественность форм человеческой истории и жизни, выделяют наряду с геогра-
фическим самобытного и ни к чему иному не сводимого духовного начала жизни, живого чувствования духовных принципов жизни. В контексте месторазвития возможно постижение целостного мира.
Напомню об одной из тенденций образования — стремлению к целостности. Суть ее в том, чтобы изучить среду, полюбить ее, подчинить ее элементы служению образованию людей, живущих в этой среде. Подчинить — сильно сказано. Многое в процессе взаимодействия среды и образования происходит стихийно, независимо от сознания, профессиональных действий.
Пример современной жизни. Несмотря на сложности, противоречивость, образование не только функционирует, но и развивается благодаря региональным образовательным системам. Региональное образование есть результат если не гармоний, то, во всяком случае, осознанно организованного взаимодействия среды и образования, когда особенности среды опосредованно и прямо влияют на состояние жизни каждого человека, всего населения, а образование и образованные граждане оказывают воздействие на среду, являясь ее продуктом и субъектом культуры.
Следует иметь в виду, что социально-педагогическая система может рассматриваться как внутренняя среда образования, а все, что к ней не относится, — в качестве ее внешнего окружения.
Взаимоотношения между образованием и средой — тема весьма актуальная, динамичная, скрытая под повседневностью и, казалось бы, естественностью, многоаспектная, непрерывная, всегда деликатная и при этом малоизученная.
В результате предлагаемых нам (часто навязываемых) вариантов дальнейшего развития меняются, по нашему разумению, смысл и назначение регионального компонента учебных планов.
Одной из важнейших цивилизационных перемен в современной России, безусловно, является взятый на рубеже XX—XXI вв. курс на изменение отечественного образования с перспективой постепенного вхождения России в общеевропейское образовательное пространство. Задачи этой модернизации заставляют по-новому посмотреть на уже привычное разграничение федерального и регионального компонентов государственного образова тельного стандарта. Прежняя логика такого разграничения сводилась, в общем, к признанию невозможности абсолютной содержательной унификации в деятельности образовательных учреждений всех ступеней, а отсюда последним разрешалось в рамках регионального компонента включать в содержание образования то, что на местах по каким-либо причинам казалось важным. Получалось, что региональный компонент потому и называется региональным, что определяется местными условиями, даже если предметы, дисциплины и курсы, его наполняющие, по своему значению выходят далеко за пределы конкретного региона.
Однако процедура вступления России в так называемый Болонский процесс, сопряженная с необходимостью привести структуру и содержание нашего образования в соответствие с западными стандартами, вполне определенно смещает акценты в трактовке задач федерального и регионального компонентов. Собственно, оба эти компонента в совокупности должны обеспечивать нашу интеграцию в общеевропейское образовательное пространство, но именно в наполнении регионального компонента, по-видимому, возможны решения, позволяющие поддерживать национальные ценности и традиции. В федеральном компоненте для тех ценностей и традиций в рамках Болонского процесса просто не остается места — ведь это не Запад приспосабливается к России, а наоборот. В такой ситуации соблюсти свои национальные интересы возможно, лишь твердо установив, что содержание образования должно быть незыблемо, что оно не может корректироваться ни при каких условиях, поскольку непосредственно обеспечивает эти интересы.
Поэтому региональный компонент теперь следует рассматривать не как дань национальному своеобразию каких-то субъектов Федерации или отражение местных специфик, а как форму обеспечения общенациональных интересов на уровне содержания образования. Здесь на деле нет вроде бы подразумевающегося противопоставления «федеральных» и «общенациональных» интересов — речь ведь идет о едином, общем для всех образовательном стандарте; просто одна часть этого стандарта рассчитана на эффект коммуникации с Западом, а другая — на сохранение в процессе такой коммуникации собственных традиций, того, что свойственно только нам.
«Региональность» в содержании образования, таким образом, должна свидетельствовать о том, что внутренне присуще всем (любым) регионам или субъектам Федерации как членам изначально, исторически единого культурно-образовательного пространства. Отсюда наши попытки найти это «внутренне общее» через анализ таких понятий, как «историко-культурное наследие» и «культурно-образовательная среда». Жизненная необходимость такого «поиска» стала очевидной уже тогда, когда Болонский процесс был не реальностью, как сегодня, а перспективой. Например, все споры и дебаты по ходу принятия Национальной доктрины образования в РФ так и не повлияли на формулировку, согласно которой система образования призвана обеспечить «историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России».
Что же здесь неправильно? Да то, что благодаря запятым создается впечатление, будто все перечисленные — хотя близкие, но тем не менее самостоятельные задачи. Действительно, «историческую преемственность поколений» вполне возможно обеспечить и без «национальной культуры», например, через пресловутую американизацию («вестернизацию»), а для сохранения культуры совсем не обязательно воспитание «бережного отношения к историческому и культурному наследию», достаточно всего лишь организовать надежную музейную (а еще лучше — хранилищную) консервацию избранной атрибутики национальной культуры.
На наш взгляд, все эти задачи следует рассматривать как подчиненные главной — воспитанию гражданина России, по отношению к которой [задаче] обращение к национальной культуре в рамках регионального комитета выступает единственно возможным средством.
Понимание культуры здесь, конечно, должно быть историческим, даже историософским, осознающим ее инструментальность по отношению к понятию духовности. Только при этом условии региональный компонент может, отвечая требованиям времени, выступать своеобразной гарантией жизненности образования в смысле соответствия содержания последнего тому, что доступно непосредственному чело веческому опыту. Такую гарантию может дать лишь присутствие в содержании регионального компонента — того, что неотъемлемо от местной жизни, в чем эта жизнь выражена наиболее рельефно, т. е. некий «дух места», проявленный в людях, здесь рожденных, живших и живущих.
Разрешению противоречия между необходимостью найти что-то одновременно «общее» и «частное» в региональном компоненте были посвящены наши разработки историко-культурных оснований духовного содержания регионального компонента современного отечественного образования. В отечественном философско-педагогическом и религиознопедагогическом опыте наиболее близкие к искомым основаниям методологические установки «соборность» и «всеединство» в трактовке соответственно А. С. Хомякова и В. С. Соловьева. Следуя заложенным ими исследовательским традициям, мы в собственном поиске исходим из того, что наиболее явное выражение того «духа», который специфичен для каждого места, но общий всем, любым «местам» — это вера, феномен веры (верит каждый по-своему, но все именно верят), а ее собирание и оформление происходит в Православной церкви, живущей Писанием и Преданием, но остающейся при этом всегда современной. О том, как эту современность можно использовать в актуальных образовательных практиках, позволяет судить наше исследование оптимальных принципов отбора историко-культурных оснований духовного содержания регионального образования.
Несколько замечаний о науке «педагогика». В последние годы появились различные по названию педагогики: педагогика рефлексии, педагогика личности, педагогика самоорганизации, личностно-ориентированная педагогика и даже новая «педагогия изящной словесности для грядущего». А по содержанию — ни ума, ни души. Большинство диссертационных исследований по педагогическим специальностям посвящается абстрактным ученикам и учителям, находящимся в виртуальной среде. Это, как и многое другое, позволяет некоторым авторам говорить об уязвимости современной отечественной педагогической мысли. Нам же нужна педагогика философичная, заинтересованная в живых, реальных, целостных формах бытия, отражающая личную природу современной педагогической мысли.
Педагогика находится между состоявшимся прошлым и возможным будущим. Состоявшее прошлое — это определенная идеология, баланс, равновесие, стабильность, статичность, неизменность, неподвижность, предсказуемость и, как следствие, рекомендации на все случаи жизни. Возможное будущее — это неопределенная идеология, дисбаланс, отсутствие равновесия, стабильности и статичности, изменчивость, подвижность, непредсказуемость, одним словом движение.
Программам реформирования педагогики в целом (если они вообще возможны), вероятно, должны предшествовать «локальные педагогические новшества и усилия на местах, в ходе которых будет сформирован локальный контролируемый педагогический опыт. Однако чтобы сделать его общезначимым и эффективным, необходима серьезная педагогическая критика и рефлексия, т. е. в современной педагогике должен более интенсивно формироваться второй слой, назовем его «рефлексивным». Задачи третьего слоя («коммуникационного») — обсуждение общих условий современного образования (экономических, социальных, культурных), анализ возможных организационных форм образования, обсуждение серьезной политики в сфере образования, назначения и особенностей разных педагогических практик и программ и т. п.1 В начале XXI столетия, к сожалению, мы все еще нуждаемся в такой философии образования, которая стала бы методологией новой, более совершенной педагогики. Вот почему мы сегодня нуждаемся в педагогике, способной размышлять, опираться на такую философию педагогического знания, которая стремилась бы найти методологию изучения развивающегося человека в сложном противоречивом мире.
Культурно-образовательная среда (КОС). На что мы уповаем? Разрешение накопившихся противоречий в отечественном образовании, в российской педагогике мы связываем определенные надежды с понятием «культурнообразовательная среда». Данная категория близка нам и любима. Она позволяет анализировать, воспринимать реальные процессы, происходящие в жизни на конкретной среде, в конкретном городе. Мы хотим понимать, что с нами происходит: быть современными; сохранять национальное лицо государства, культуры и образования; развивать, совершенство вать наши достоинства, наши традиции в образовании вообще и в высшем в частности.
Мы предлагаем осмыслить саму идею уникальности не с позиций суммы отдельных значимых субъектов (памятников), а через системный взгляд на уникальность Центрального региона как целостного явления, подчеркивая междисциплинарный характер предполагаемой программы. Результатом реализации намеченной работы можно считать такие существующие сегодня направления по изучению историко-культурного наследия края, как историко-философское, литературно-краеведческое, историко-педагогическое, философско-педагогическое, религиозно-педагогическое; накапливается эмпирический материал по исследованию отдельных компонентов, включаемых в понятие «наследие». Обратите внимание, почти всегда — «педагогическое». И это не случайно. Мы извлекаем уроки, учимся, ибо в наследии заключен колоссальный поучительный и душеполезный потенциал. В этой нескрываемой субъективности отношения к отечественному образованию и родной культуре, по-видимому, и заключается специфика изучения наследия как самостоятельного научного направления. Иначе говоря, тот, кто берется за «наследие», способен преуспеть лишь тогда, когда сознает свое родство с ним, когда видит перед собой не абстрактный объект исследования, а что-то близкое, свое, точнее, наше.
Мы считаем обоснованным правомерность применения по отношению к Центральному региону термина «уникальная историко-культурная территория», которая представляет собой фактор образовательного процесса в регионе.
Понятие «культурно-образовательная среда» мы пытаемся использовать в качестве «инструмента» изучения региональных особенностей образовательной практики, истории и современности, размышляя над вопросом о соотношении в культурно-образовательном опыте типичности и самобытности, ответ на который возможен посредством историкопедагогической реконструкции.
Культурно-образовтельная среда — носитель богатой, разнообразной, в том числе и противоречивой информации, воздействующей на разум, чувства, эмоции, веру ицдивцда, а значит, и обеспечивающей возможность его выхода на живое знание. В таком понимании среда предстает в виде некоей лаборатории духовного, социального, профессионального опыта человека, а алгоритм ее изучения синхронизован с процессом формирования личности.
Использование понятия «педагогический потенциал культурно-образовательной среды» позволяет расширить границы интересов педагогики, включая в нее окружающую действительность в качестве источника, движущей силы развития и педагогического средства личности. Педагогический потенциал кульур-но-образовательной среды правомерно рассматривать при выделении единой функциональной системы «человек — составляющие среды». Основным системообразующим принципом выступает средовая жизнедеятельность, структуроформирующей связью является отношение человека к его культурному окружению, в результате чего возникает взаимосвязь и между составляющими культурно-образовательной среды. Степень взаимосвязи зависит от меры личностного осмысления, от степени включения в активизированную ценностную сферу культуры. Средовой педагогический потенциал может быть увеличен за счет возрастания ресурсов системы и путем изменений в структуре, и путем взаимодействия между элементами системы.
Категории «культурно-образовательная среда» (КОС) присущи как статические, так и динамические характеристики. Первые — данность, с которой приходится считаться в силу особенностей каждого региона, края, области, города и т. д., которым свойственна соразмерность частей, слияние различных компонентов объекта в единое органическое целое, одним словом, гармония. В данном случае регион или город — некая целостность, относительная уравновешенность противоречивых элементов, стремление к соответствию базовых и производных качеств, родовых и периферийных понятий.
В русском языке для характеристики статического состояния культурно-образовательной среды есть такое слово, как «лад». По В. И. Далю, лад — это мир, согласие, любовь, дружба, отсутствие вражды, порядок; годный, путный, хороший, гожий.
В. И. Белов, наш современный писатель, рассказывая об образе народной, крестьянской жизни, использует слово «лад», подразумевая стремление к совершенству, целесообразности, простоте и красоте в жизненном укладе. Он рассказывает о ладе, а не о разладе, обращая особое внимание на упорядоченность и устойчивость, на ритм и цикличность, которые исключают бытовую статичность и неподвижность.
Особое значение приобретают динамические качества среды, ее возможное актуальное воздействие на людей: ведь именно органичное соединение культурных, морально-нравственных, исторических, информационных, экзистенциальных компонентов среды и позволяет нейтрализовать влияние факторов отчуждения, осложняющих оптимизацию процесса образования.
КОС развивается, формируется, изъясняется. Под влиянием таких факторов, как здравый смысл, национальный характер, климатические условия, КОС постепенно и постоянно изменяется за счет отказа, отмирания. Это одцо направление формирования КОС. Есть и другое. Стремясь к совершенству, КОС в своих недрах рождала то, чего не доставало. Иногда происходило и заимствование, но все это становилось достоянием всего народа.
Эвристический потенциал культурно-образовательной среды в полной мере еще не оценен, хотя разработка связанных с этой категорией проблем ведется довольно плодотворно. Так, уже полученные результаты теоретической и методической работы показывают, что данная категория позволяет не только достаточно точно проследить динамику образовательных тенденций на всем пространстве России, но и выявить их неразрывную связь со спецификой и возможностями образовательных процессов на региональном уровне, в малых городах страны, каждый из которых культурно и исторически неповторим.
Категория «культурно-образовательная среда» оптимальным образом сочетает в себе универсальные и уникальные характеристики образования.
Культурно-образовательную среду также возможно использовать для адекватного описания общей культурно-образовательной ситуации, а также исторически удаленных объектов научно-педагогического интереса. Подобный исследовательский интерес объясняется принципиальной необходимостью диалога с прошлым, когда исторический опыт понимается не как пакет готовых ответов на все случаи жизни, а скорее как повод для размышлений. Среда — не цель. Она — средство.
За категорией «культурно-образовательная среда» видится путь, который проходит каждый; путь этот — не по знакомой дорожке, он в неизвестное, часто от знания к незнанию. А любой путь в неизвестное предполагает творчество как условие усмотрения нового и небывалого, приключившегося только с тобой, и удержаться этого усмотренного в собственном сознании, с тем чтобы сразу или потом выразить в слове, запечатлеть, пересказать другим. Но, как нам теперь известно, обретение и переживание новых смыслов суть следствия взаимодействия человека со средой, которая и определяет характер пути и его конечные результаты. Результаты — все разные; характер и содержание пути (траектория развития) — разные; состояния людей — разные.
Одни находятся в состоянии объекта как фрагмент реальности, на который направлено воздействие КОС, сам человек не взаимодействует со средой, не ощущает и не осознает материальное и духовные элементы окружающего мира.
Другие находятся в состоянии источника познания окружающей среды, носителя активности в процессе взаимодействия со средой, т. е. в состоянии субъекта. Под влиянием активной жизнедеятельности формируется субъективное семантическое восприятие вещей, из которых состоит среда; понятий, элементов КОС путем анализа их значений, рефлексии всего происходящего.
Третьи оказались способны к сверхнапряжению ради достижения идеальных целей, порой иллюзий, при этом знак «плюс» или «минус» их устремлений для них роли не играл. Они сотворили самих себя, что позволило им стать не просто субъектами КОС, а носителями лучшего, передового; они оказывали воздействие на среду и оставили богатейшее наследие своим землякам; они олицетворяли пассионарный подъем русского народа и сами могут называться пассионариями.
Учитывая мнение независимых экспертов, всевозможные публикации, необходимо отметить: появление феномена культурно-образовательной среды было одним из ответов на вызовы времени, который предоставила педагогика, постигающая методологию неопределенности. Исследование дает возможность понять, каким образом образование в конкретном городе может реагировать на изменчивую социальность, с одной стороны, учитывая традицию, с другой — выявляя бесконечность культурных смыслов, органично представляемых историей города и окрестностей. КОС принадлежит к явлениям, сопрягающим упорядоченность и возможность с приоритетом культурного диалога развивающегося субъекта. При этом каждый субъект (ребенок и родитель, учитель и школьник, преподаватель и студент, профессор и аспирант) имеет право и свой выбор в средовой знаковости. Концептуальность разработки КОС дает возможность педагогике осуществлять поиск баланса культурного и цивилизационного, тем самым, обнаруживая иной уровень получения педагогического знания. Не случайно при обсуждении содержания понятия «КОС» появляется нетипичный для классической педагогики ряд терминов, требующих осмысления: миссия, судьба, уникальность, пространство, дополнительность и др. Актуальность изучения обусловлена динамикой сопряжения культурных смыслов и возможностей педагогического сообщества в их раскрытии через упорядоченную систему. Извлечение культурного смысла имеет личностно значимый характер для исследователя, педагога и посредством этого возвращается в среду обогащенным, иным.
Таким образом, понятие «культурно-образовательная среда» вступает в межпарадиг-мальный диалог, происходящий в сфере гуманитарного знания. КОС, имея философско-педагогическое содержание, не может являться мифом, традицией, инновацией. Вместе с тем в определенном контексте КОС — миф, если составляющие содержания данного понятия рассматриваются раздельно, частично, секуляризовано; реальность, когда понятие рассматривается целостно, совместно, со-борно; традиция, если это живое наследие, наше наследие как высшая, духовная ценность; инновация, если творчество сопряжено с историей и культурой, образом жизни народа, поддерживая, пестуя и обогащая его ценность.
Список литературы Культурно-образовательная среда - миф или реальность, традиция или инновация
- Розин В.М. Образование в ситуации перехода. Опыт гуманитарного исследования и преподавания. Образование на рубеже эпох. Опыт личного осмысления методологии гуманитарного исследования. Материалы летней школы молодых ученых. Липецк: ИРО, 2007