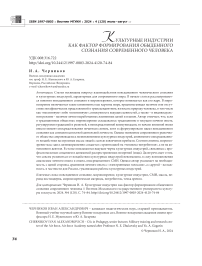Культурные индустрии как фактор формирования обыденного сознания современного человека
Автор: Черников И.А.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (120), 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросу взаимодействия повседневного человеческого сознания и культурных индустрий, характерных для современного мира. В начале статьи рассматриваются понятия повседневного сознания и мировоззрения, которое понимается как его ядро. В мировоззрение включаются такие компоненты как картина мира, предполагающая наличие или отсутствие метафизических представлений о трансцендентном; взгляд на природу человека, в том числе как «негативную» либо «позитивную»; совокупность ведущих ценностей, а также в индивидуальном режиме наличие лично выработанных жизненных целей и планов. Автор отмечает, что, если в традиционных обществах мировоззрение складывалось традиционно в текущем личном опыте, регулируемом традицией и религией, в непосредственной коммуникации, то начало книжной эпохи внесло момент опосредствования печатным словом, хотя и сформулировало идеал повседневного сознания как сознания целостной деятельной личности. Однако появление современного рыночного общества сопровождалось возникновением культурных индустрий, анонимного опосредованного воздействия на огромные массы людей с целью извлечения прибыли. Соответственно, мировоззрение масс здесь целенаправленно создается с ориентацией на «человека потребителя», а не на автономного деятеля. В статье описываются ведущие черты культурных индустрий, связанных с профессиональным созданием и динамикой распространяемых воззрений (мода). Далее речь идет о том, что совсем уклониться от воздействия культурных индустрий невозможно, в силу возникновения амальгамы личного опыта и опыта, опосредованного СМИ. Однако автор указывает на необходимость, с одной стороны, сравнения личного опыта с «электронными голосами», а с другой на важность, в частности для России, гуманизации работы культурных индустрий.
Повседневное сознание, мировоззрение, культурные индустрии, сми, массы, период постмодерна, мировоззренческие матрицы, потребитель, точка зрения
Короткий адрес: https://sciup.org/144163181
IDR: 144163181 | УДК: 008:316.722 | DOI: 10.24412/1997-0803-2024-4120-74-84
Текст научной статьи Культурные индустрии как фактор формирования обыденного сознания современного человека
Проблема, которой посвящена данная статья, – это вопрос о соотношении обыденного сознания личности, рождающегося в ежедневном опыте, и того влияния, которое оказывают на индивида и его поведение современные культурные индустрии. Кем является человек: самостоятельной личностью или марионеткой, которую приводит в действие множество информационных нитей, явно и тайно тянущихся к нему от телевидения и радио, социальных сетей и блогов, модной рекламы и популярных кинофильмов? Возможно ли вообще быть «автономным сознанием» среди океана социально-психологических и идейнополитических воздействий, обрушивающихся на голову любого «среднего индивида», «маленького человека», обитателя мегаполиса?
Стоит отметить, что авторы, занятые исследованиями культурных индустрий, как правило, интересуются их социальной, технологической и коммуникативной спецификой, индустриями как производителями смыслов, но сами смыслы при этом часто понимаются как нечто абстрактное, как просто момент системного функционирования культуры [10]. Проблемам информационной трансформа- ции культуры посвящено немало исследований, как тех, что уже стали классическими (Д. Белл [1], Ж. Бодрийяр [3], М. Кастельс [7], М. Маклюэн [9], О. Тоффлер [12], и др.), так и относительно более новых (Д. Тросби [13], Д. Хезмондалш [15] и др.), но тема мировосприятия, мировоззрения и мироотношения личности поднимается там эпизодически. Попробуем же в этой небольшой статье взглянуть на ситуацию, которая складывается в отношениях между повседневным сознанием личности и многочисленными зазывающими и убеждающими голосами культурных индустрий. В качестве ядра таких индустрий мы в данном случае берем сеть Интернет, телевидение и радио, то есть, то, что называют электронными СМИ, а также феномен моды.
Повседневное сознание: традиционные и модерные способы формирования
Повседневное сознание людей – это сознание, которое формируется в ходе обыденной жизни и индивидуального опыта, возникающего в интерсубъективном и организованном мире. Согласно А. Шюцу, оно включает в себя естественную установку, не содержащую сомнений в реальности окружающей действительности. Любая интерпретация этого мира основана на прежних переживаниях. «В этот наличный запас переживаний, – пишет Шюц, – входит и наше знание того, что мир, в котором мы живем, есть мир хорошо очерченных объектов, обладающих определенными качествами, – объектов, среди которых мы движемся, которые оказывают нам сопротивление и на которые мы можем воздействовать» [17, с. 402]. Повседневное сознание исполнено смысла, так как человек все время так или иначе толкует то, что с ним происходит, оно также активно и деятельно: Шюц говорит о «напряженном внимании к жизни». Труд, который включает телесную, предметную деятельность – важнейшая составляющая повседневности. Человек ставит и достигает цели, он вполне практичен и ориентируется на идеализацию повторяемости, отмеченную еще Э. Гуссерлем: «Я могу сделать это снова». Повседневное сознание коммуникативно по своей природе, оно предполагает Других, взаимоотношения с ними, обмен мнениями и представлениями, совместные действия. Картина мира и мировоззрение человека, его представления и ориентиры, руководящие поведением, складываются именно в обыденной жизни, в личном опыте. Исследователь повседневности Е. В. Золотухина-Аболина отмечает: «Текущий опыт субъективных переживаний – опыт повседневной эмпирической жизни – является одновременно целостным и разомкнутым, сложившимся и изменчивым, закрытым и открытым» [6, с. 27].
Мировоззрение являет собой ядро повседневного сознания. «Главной особенностью мировоззрения, – удачно отмечают Н. А. Некрасова и С. И. Некрасов, – является то, что оно всегда имеет отношение к индивиду, социальной группе, эпохе, представленной конкретными лицами. Heт безличного, анонимного мировоззрения. В центре всякого мировоззрения стоит определенный субъект. Это объясняется тем, что в него включены не только знания, но и ценности, идеалы, чувства, цели, все то, что имеет смысл для конкретного человека» [11, с. 22]. Но что в структурном отношении представляет собой мировоззрение, в какую бы эпоху оно ни формировалось? Думается, можно назвать некоторые составные мировоззрения. Это, во-первых, некий общий абрис представлений о мире, картина мира, но нередко достаточно размытая, усвоенная «в общих чертах»: есть ли Бог, каковы пределы окружающего, насколько опасна и полезна природа вокруг? Во-вторых, позиция по поводу того, какова суть человека: смертен он или бессмертен, добр или зол? В-третьих, ответ на вопрос, что самое главное и ценное в жизни, к чему следует стремиться (вопрос о ведущих ценностях). И, наконец, в-четвертых, представление о значимых личных целях: чего я хочу от жизни, к чему мне стремиться, каким образцам следовать?
В течение тысячелетий мировоззренческое ядро повседневного сознания складыва- лось под влиянием господствующей в данной культуре религии, под влиянием обычаев, традиций, в рамках семейного воспитания и сложившихся форм образования. Родительское воспитание в семье, домашние наставники, школы в античности, а в Средневековье уже и университеты, – все это формы созидания внутреннего мира человека, которые, конечно, были различны для разных групп и слоев общества. Однако, будь то крестьянский сын, которого приучали к молитве, трудолюбию и покорности, или же отпрыск аристократического рода, которому вменяли вместе с той же набожностью дворянскую гордыню и воинственность, воспитание и образование обоих в любом случае осуществлялось как личное взаимодействие в рамках совместной текущей жизни. Повседневное сознание и мировоззрение с его системой ориентиров складывалось в непосредственном общении и текущем опыте, в актуальной коммуникации. И даже возникновение «галактики Гутенберга», происхождение письменности, а затем книгопечатания, не делает создание мировоззрения собственно опосредованным. Сила личного влияния, примера, практического воздействия всегда перевешивала любые «книжные грезы». В те прошедшие столетия, которые мы можем образно назвать «миром традиции», в доиндустриальную эпоху, именуемую также «премодерном», мировоззренческие установки, свойственные повседневному сознанию, возникали в прямом чувственно- практическом контакте с реальностью. По большей части они складывались без целенаправленного намерения воспитателей и учителей сформировать исключительно автономного деятеля, скорее, напротив, добротного исполнителя. Однако, апеллируя к устойчивости социокультурных представлений, старшие, приступая к воспитанию, предполагали, что формируют качества «именно этого человека», которому не только вменяется ответственность за свое поведение, но и оставляется некий, пусть небольшой, зазор для личных вариаций картины мира.
Эпоха модерна – промышленная эпоха – нередко датируется XVI–XX веками [5, с. 31]. Это время становления и утверждения – как образа личности, так и классического образования с большой гуманитарной составляющей. «И современные, и традиционные взгляды на универсализм образования совпадают в том, – отмечает М. В. Левит, – что личность, понимаемая с позиции антропологии и ее частного случая – педагогики, – личность цельная. <...> сущность такой суверенной личности в возможности стать автором (для человека религиозного – соавтором) реальности» [8, с. 30]. Теперь педагогическая и философская рефлексия приходит к утверждению значимости не любого, а именно сознательного и творческого индивида, носителя разума и воли. В классическом образовании, ориентированном на личность как целостного деятеля и творца, присутствуют древние языки, знание истории и литературы, прививается культура чтения и истолкования письменного текста. Мировоззрение и повседневное сознание являются здесь синтезом двух уровней – опытно- практического и гуманитарнокнижного; опыт прямого практического научения и усвоения текстов сливается воедино. При этом, во всяком случае в Новое время, к читателю обращается конкретный, поименованный автор. В этот период культура творится еще не как коммерческое предприятие, она, скорее, является делом отдельных групп и одиночек, интеллектуального пласта социума, довольно узкого круга искателей и созидателей, поддержанных системой образования. Непосредственное влияние воспитателя и проповедника дополняется как книжными текстами, так и обращением к собственной мысли «подопечного-реципиента». Мировоззренческие представления и ценностные взгляды воспитуемого несут на себе печать как его личной рефлексии, связанной с текущим опытом, так и доверия к учителям и наставникам (людям лично знакомым) и авторам книг (людям, лично не знакомым, но известным и «осиянным» авторитетом издания). И адресатом воспитательных и об- разовательных усилий выступает индивид как «разумный деятель» – сознательный член общества. Эти идеалы Просвещения, пусть в чем-то наивные и игнорирующие наличную в человеке «тьму страстей» и подсознательных импульсов, тем не менее, ориентируют подопечных и учащихся на культивирование, с одной стороны, соблюдения культурного канона, а с другой – на его личное самостоятельное прочтение. Процесс формирования повседневного мировоззрения остаётся в немалой степени делом непосредственным и личным. Однако в ХХ веке с рождением массового общества и массовой культуры, с гигантским развитием медиа-сферы соотношение индивидуально-личного, непосредственного, с одной стороны, и технологически-обезличенного – с другой, резко меняется.
Культурные индустрии – конвейер мировоззренческих матриц
Начинается период, который принято называть эпохой постмодерна, эпохой постиндустриального информационного общества. Соответственно меняются способы формирование обыденного сознания людей и его мировоззренческого ядра. Сфера личного воздействия и личного взаимодействия индивидов и в воспитательном, и в образовательном, и в пропагандистско-проповедническом процессе, конечно, не исчезает до конца, но существенно сужается, вытесняемая опосредованными техническими формами внедрения в умы идей, а в сердца – эмоций. Культурные индустрии, хотя их можно было бы назвать – в силу их принадлежности к постиндустриальному миру – и «постиндустриями», являются гигантским механизмом формирования сознания сразу больших масс людей: штампования взглядов, настройки умов, генерирования настроений. Они работают как глобальная фабрика, где уже нет места индивидуальному, личному, конкретно-направленному усилию воспитания именно этой узкой группы или обучения этих конкретных людей. Как ремесленные изделия были вытеснены в свое время работой заводов, так личные старания уникальных художников, мастеров слова, вдохновенных проповедников, пламенных учителей, лично контактирующих с аудиторией, вытесняются всепланетным производством передач, кинофильмов, информационных программ, во многом созданных для всех стран и континентов по одним и тем же лекалам. В предельных же случаях мы даже можем обнаружить, что в наши дни продукция культурных индустрий вырабатывается «ботами» и нейросетями. Хотя, разумеется, за любыми роботизированными формами находятся люди, для которых нейросети и «искусственный интеллект» – это только инструмент, применяемых ради обслуживания интересов конкретных элитных групп.
Ж. Бодрийяр, строгий критик современной эпохи, когда-то ошибся, сочтя гаджеты всего лишь техническими игрушками, тешащими самолюбие. В работе «Система вещей», вышедшей в 1968 году, он писал о гаджетах: «Автоматика здесь безраздельно господствует, и её фасцинация так сильна именно потому, что не носит рационально-технического характера: в ней мы переживаем как бы некоторое бессознательное желание, как бы воображаемую суть предмета, по сравнению с которой его структура и конкретная функция нам достаточно безразличны» [4, с. 122]. Но со временем гаджеты из игрушек-развлечений превратились в «целый мир, который мы носим с собой»: все виды воздействия культурных индустрий в их многообразии можно получить через смартфон. А смартфон неотлучно находится с человеком в сумке или в кармане. С ним не расстаются практически нигде и никогда, так как в нем находятся и документы, и деньги, и связь со значимыми людьми, но в то же время – все новости, любые фильмы и передачи, реклама чего угодно, новые веяния моды, ток-шоу и политические дебаты. Таким образом, обезличенный, массированный, технизированный, а возможно, и сгенерированный техникой «контент», то есть, идеи, выраженные в текстах и образах, сопровождают сегодняш- него человека все время, буквально без сна и отдыха. Проснувшись среди ночи, наш современник тянется к смартфону, чтобы обрушить на себя очередной шквал информации, направляющий внимание на то, о чем именно сейчас думать и что переживать. То есть культурные индустрии, транслируют нам заложенное в них содержание, формируют наше обыденное сознание, мировоззрение, мировосприятие, настроение, и делают это в любой момент времени и в любой точке пространства, пока мы не выключили их или не уехали на край света, где нет сети Интернет.
А в чем же заинтересованы культурные индустрии, как существующие в пространстве нашего внешнего действия, так и спрятанные в смартфоне? Чтобы в полной мере оценить их послания, адресованные всем нам порой от лиц известных, а часто – от неизвестных, обратимся к позиции непререкаемого авторитета в вопросе культурных индустрий Дэвида Хезмондалша [15]. В первой части своего огромного исследования этого феномена он утверждает правомерность по-литэкономического подхода, то есть ставит вопрос «Кому выгодно?». Кому и почему выгодно, чтобы различного рода тексты, несущие идеи, а также фильмы, передачи, шоу распространялись таким массовым способом, разрывали прямые связи между людьми и вставали на место посредников, заполоняя собой все щели и паузы, практически устраняли прямые воспитательные и развлекательные акции, заменяя их – вторичными, технизированными и всеохватными? Он пишет: «Показательно, что большинство потребляемых нами текстов, распространяется влиятельными корпорациями. Эти корпорации, как любые бизнес-структуры, заинтересованы в прибыли. Они хотят поддерживать условия, в которых бизнес в целом, в том числе и их собственный, может приносить большие прибыли» [15, с. 16–17]. И хотя автор потом много раз повторит, что тексты, поставляемые культурными индустриями, «сложные, неоднозначные и спорные», первичная его постановка вопроса остается в силе. Несо- мненно, продукция культурных индустрий не может только призывать больше покупать, но она строится таким образом, чтобы реально покупали больше, и воздействие это осуществляется как на сознательном, так и на бессознательном уровне. При этом в товар для продажи превращаются те феномены и артефакты, которые по сути своей как бы и не предназначены для торговли: духовные искания, жизненные советы, психотерапевтические практики, религиозные ритуалы, виды общения. Все «коммодифицируется», то есть, становится прагматически-используемым, денежно выраженным, вошедшим в рыночный режим: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Судя по всему, А. С. Пушкин не представлял себе, что и вдохновением тоже можно успешно торговать, в особенности – через социальные сети, телеграм-каналы и прочие «индустриальнопостиндустриальные формы».
Современный информационно-постиндустриальный вариант буржуазного развития характеризуется активным применением «культурных индустрий», а, быть может, точнее сказать, информационных каналов, для продвижения мировоззренческих установок, свойственных не человеку-личности и даже не человеку- исполнителю, но прежде всего – человеку- потребителю. Не цельная самостоятельная личность, делающая осмысленный выбор, не гуманист-подвижник являются целью и результатом вещания культурных индустрий во всех их видах. Обыденное сознание буквально создается, организуется медийными психологами, экономистами, репортерами и шоуменами как сознание глобального потребителя, чувствующего себя вправе переступать многие моральные запреты прошлого и коммуникативные ограничения ради стяжания денег и удовлетворения любых личных прихотей. Удовлетворение самых фантастических прихотей расширяет рынок и позволяет бизнесу, цель которого – финансовые потоки, свободно двигаться в любых направлениях, захватывая неограниченные сферы влияния. И это – в том или ином вари- анте – ценностное содержание деятельности западных культурных индустрий, порожденных современной стадией рыночного общества. Наверное, это содержание может быть скорректировано при ином типе социальноэкономического устройства: ведь нельзя же сбрасывать со счетов и наличие общечеловеческого гуманистического содержания в тех пластах культуры, которые неизбежно принимают «индустриально-постиндустриальную форму». Но, так или иначе, культурные индустрии сегодня – это проводники и глашатаи интересов глобального рынка, которые мировоззренческие повседневные установки формируют «под себя».
Однако тема содержания распространяемых ценностей – тема отдельная. Вернемся к сюжету характера взаимодействия современных культурных индустрий и потребителей их повсеместной продукции. Следует отметить, что увернуться от массированного технического влияния на основные анализаторы человека – зрение и слух – довольно трудно, тем более что организаторы и моды, и СМИ, и других форм применяют огромный арсенал средств – соблазнения, интриги, недосказанности, сенсационности. Главное – привлечь и удержать внимание, а тогда проповедуемые ориентиры – на потребление, на личный комфорт, на наслаждение – войдут во внутренний мир реципиентов сами. Работа «культурных индустрий», тесно связанная со всеми видами электронных СМИ, обладает следующими «гипнотизирующими» чертами: повторяемость, мозаичность, нередко – анонимность, быстрая смена тем с забвением вчерашних «горячих проблем», многообразие тематики, предлагаемой «на любой вкус», открытость любым фантазиям со снятием запретов.
Рассмотрим коротко условные плюсы и минусы перечисленных характеристик для тех, на чье повседневное сознание они влияют.
Повторяемость. Несомненный минус повторяемости для потребителя – ее навязчивость, которая может раздражать и утомлять, вызывать чувство протеста. Каждый знает нетерпеливое желание выключить ре- кламу, для чего, собственно, и был изобретен пульт управления телевизором. Однако даже глупые рекламные ролики вскоре становятся привычными и начинают как бы становиться «частью аудиального интерьера». Возможно, кто-то даже почувствует без них неуют. А поставщикам «культурно-индустриальной продукции» они позволяют провести в подсознание человека конкретное содержание, которое тот должен усвоить.
Мозаичность . Мозаичность подачи информации, несомненно, снижает интеллектуальный уровень пользователя-потребителя, приучая его воспринимать только короткие тексты, но сам он этого, скорее всего, не замечает, усвоив, что смешение «Божьего дара с яичницей» – дело вполне нормальное. От длинных текстов уже целые поколения испытывают лишь дискомфорт, благодаря чему прежние виды литературного и интеллектуального творчества вытесняются из жизни, освобождая место для все тех же рекламных роликов, коротких скетчей и визуальных экспериментов. Анонимность, сопровождающая мозаичность, позволяет не загружать память избытком чужих имен.
Быстрая смена тематики с забвением вчерашних скандалов и катастроф освобождает зрителя и читателя для новых сиюминутных сенсаций, позволяет погрузиться в сегодняшнее рыночное предложение, которым в явном или скрытом виде сопровождается новая информация. «Новый хайп» – это новые продажи, новое любопытство, избавление от вчерашней, уже не нужной, рефлексии и переживаний, которые способны отягощать.
Разнообразие предложения и минимум запретности , несомненно, потакают все тому же легковесному любопытству и стремлению немалой части аудитории выйти за рамки социальных и моральных табу, что называется, «распоясаться», отказаться от необходимых ограничений, исторически сложившихся в коммуникации.
Можно констатировать, что упаковывая предложение товаров в несколько навязчивую, но расслабляющую и соблазнительную форму, культурные индустрии, особенно связанные с деятельностью сети Интернет, настойчиво вменяют самой широкой публике не самые лучшие мировоззренческие установки такого рода:
– неважно, как устроен мир, есть ли трансцендентное и некий мировой порядок или нет, на эту тему существует сто мнений; выбирай, что хочешь, или ничего не выбирай, а живи, погружаясь в игру, в круговерть покупок, в развлечения, в инфосферу, где нет ни смерти, ни жизни, ничего серьезного, потому что в каждой игре запас по пять жизней и все – только мелькание мнений и символов;
– человек – скорее зол, чем добр, все всех грабят и убивают, и особенно никого не жалко, мир криминального чтива, детективов, «черных фэнтези», боевиков, фильмов-ужасов, романов-нуар и т. д. приучает реципиентов к насилию и садизму как к норме;
– цель и смысл жизни – в наслаждении, развлечении и доминировании, в успехе и богатстве.
Мировоззренческий вопрос о задачах личной жизни каждого, разумеется, остается за выбором и на совести самого человека, и лишь сам он, конечно, решает, в силах ли он становиться успешным в такой системе координат или же его удел оставаться лузером, неудачником, которого «съест» более сильный. Матрицы крепко вбиваются в сознание и подсознание «культурными индустриями», потому что масштаб и размах их влияния, несомненно, гораздо больше и мощнее, чем любые проповеди прошлых веков.
Можно ли «выключить электронные голоса»?
Этот вопрос не является праздным. В связи с глубокой встроенностью культурных индустрий во все пласты современного человеческого бытия совсем выключить их голоса скорее всего не представляется возможным. Разве что человек запрется в мо- настыре или отправится на необитаемый остров. Но львиная доля населения живет той жизнью, которая сложилась в современных социокультурных условиях и без рефлексии принимает ее законы, хотя не факт, что все довольствуются ролью пассивных адептов любого последнего слова СМИ или рекламы.
Дело в том, что при всем массированном воздействии рыночно-индустриальных пропагандистов у человека есть личный опыт непосредственного взаимодействия с миром , который у него никто не может отнять. Этот опыт невозможно элиминировать, потому что индивиды все же обитают в чувственноконкретной повседневной реальности, должны есть, пить, осуществлять другие физиологические функции, двигаться, сближаться с особями противоположного пола, защищаться от холода или жары – то есть, жить практической жизнью, а не витать исключительно в недрах экрана монитора или рекламного баннера. И повседневное сознание с его мировоззренческим ядром в огромной степени формируется за счет этого личного, практического опыта , наполненного всеми впечатлениями обыденной жизни: лично своими радостями и обидами, вкусом и цветом, тяжестью и легкостью, опытом взаимоотношений с людьми, животными и природой. И совершенно очевидно, что никакие электронные игрушки типа Тамагочи, которые и ныне можно купить на Яндекс-маркете, не заменят живых щенков и котят, так же как реальных друзей, родителей и детей. Все реальное радикально отличается от любых информационно-компьютерных имитаций, отличается как настоящее от подделки, от суррогата, от симулякра [2]. Потому что реальное общение – это общение «ли-цом-к-лицу» [17], оно телесно-чувственно, интуитивно-непосредственно, жизненнозначимо. В ныне уже отдаленные годы советского периода была шутка о «болезни ухо-глаза»: вижу одно, а слышу (по радио) – другое. Или о конкуренции между холодильником и телевизором: телевизор рассказывает красивые сказки, а в холодильнике шаром покати.
То же самое относится к сегодняшнему дню: опыт чувственной повседневности и опыт общения с «культурными индустриями» не совпадают . Точнее, он совпадает лишь частично . Многие моменты эмпирического взаимодействия человека с миром остаются недосягаемы для тех матриц, которые накладывают культурные индустрии. Они даны как прямые впечатления. Так формируется собственная повседневно-выстраданная точка зрения, свой неповторимый ракурс суждения и мироощущения.
Другой вопрос, что на эти прямые впечатления личного опыта набрасывается сеть эталонов и интерпретаций, производимых культурными индустриями во всех их видах. То есть, личный опыт начинает соизмеряться с массово заданными эталонами не традиционного свойства, а с теми, которые на текущий момент придуманы профессиональными группами, действующими в соответствующей сфере производства и торговли с целью умножения прибыли. В этом смысле фактически все проявления современного человека оказываются подвержены моде, целенаправленно создаваемой для увеличения количества продаж. Личный опыт «упаковывается» во внешние формы «модного и востребованного», и эти формы касаются всего – одежды, обуви, зданий, машин, предметов обихода, средств воздействия на телесность (медицина, физкультура, косметология), искусства, чувств, мыслей, тем для разговора, мировоззренческих позиций. И поскольку личный опыт попадает в меняющиеся матрицы, серийно производимые для продаж, то и интерпретируется он в соответствии с ними, со всегдашней на них оглядкой, со стремлением соответствовать им и не упустить момента их изменений. Личный опыт, предполагающий личную точку зрения, хотя и выстраивается в соответствии с перипетиями индивидуальной жизни, тем не менее, оказывается все время в погоне за извне заданными динамичными стереотипами: надо успевать; кто не успел, тот опоздал. Возникает ситуация, сложив- шаяся уже к середине ХХ века, в пору, когда культурные индустрии, еще не будучи электронными, уже набирали силу. Тогда известным философом и психологом Э. Фроммом человек рыночного общества был описан так: « <...> Теперь его силы становятся отчужденными, отторгнутыми от него, превращаясь в предмет использования и оценки со стороны других; тем самым его чувство самоидентификации так же колеблется, как и чувство самоуважения; оно зависит от той суммы ролей, которые человеку приходится играть, – «Я таков, каким вы хотите меня видеть» [14, с. 69].
По сути дела, происходит сплавление, амальгамирование личного опыта и стереотипов культурных индустрий. Отчего и мировоззрение человека, которое, казалось бы, рождалось в его неповторимой жизненной истории, несет на себе не просто мощный отпечаток «общих форм» (это есть и в традиционных обществах, которые тоже императивно формируют взгляды на мир, просто иными способами), но постоянно меняет эти формы под давлением индустриально поставленной манипуляции. Интересно также то, что у «среднего человека», постоянного потребителя продукции культурных индустрий, стремительно меняется даже язык, на котором он говорит, ибо новые слова, запущенные журналистами, политическими деятелями, разного рода «спичрайтерами и блогерами», моментально становятся частью повседневного лексикона, вытесняя естественно-сложившийся язык данной культуры. В наши дни агрессивным источником изменения повседневного сознания, мировоззрения и языка, на котором они себя выражают, являются англицизмы, охотно применяемые теле- и радиожурналистами, политологами, а также популярными психологами. Повседневное сознание представителей разных стран целенаправленно моделируется ради интереса транснациональных корпораций, а мировоззренческое ядро индивидов различных культур стере-отипизируется, благодаря внедрению мод- ной англоязычной лексики, претендующей на роль «современной латыни». Впрочем, латынь в свое время была уделом узкого круга ученых и не вторгалась в сознание масс, говоривших на своих собственных наречиях. Единообразная языковая матрица ведет к выработке единого «всепланетного» мировоззрения – мировоззрения безличного покупателя и потребителя, обеспечивающего финансовое благополучие узких сверхбогатых групп.
Вернемся к поставленному вопросу: можно ли выключить «электронные голоса»? До конца нет, но можно от них дистанцироваться и им противостоять. Современному человеку очень важно внимательно прислушиваться к «микро-опыту» своей жизни, к ситуациям и обстоятельствам близких и знакомых людей. Можно было бы сказать «доверяй, но проверяй», однако мы не в силах проверить лично всего, что загружают в сознание масс культурные индустрии . Для проверки обмана, надувательства, мошеннических вбросов, которые содержатся в современных СМИ, нужны специализированные структуры вроде телевизионного «Анти-фейка», который был создан в России уже в период СВО, но военные действия – особая ситуация, и на все высказывания «культурных индустрий» не напасешься специальных расследований. К тому же речь не только о фактологических обманах, но о тех ценностях , которые прокламируются по информационным каналам. Поэтому так важно сохранение и распространение иных, подлинно гуманистических ценностей , которые сформировались в европейской культуре в XIX–XX веках, – ценностей не моды и безграничного потребления, а всестороннего развития человека, который способен на доброту и щедрость по отношению к людям, развивающимся рядом с ним [16]. И это важная задача для России: сделать культурные индустрии не служанкой международных финансовых монстров, а инструментом формирования гуманистического сознания граждан современной России.
Заключение
В начале статьи нами был поставлен вопрос, возможно ли оставаться «автономным сознанием» в ситуации, когда на повседневную жизнь современных людей ежедневно и ежечасно обрушивается шквал манипулятивных воздействий, которые по объему влияния сильно отличаются от всех воспитательных и пропагандистских воздействий прошлых эпох. В результате рассмотрения повседневного сознания и специфики «культурных индустрий», служащих получению прибыли, мы пришли к следующим выводам:
-
- ядро повседневного сознания – мировоззрение – исторически складывалось в режиме личного непосредственного общения и печатного авторского слова, но в информационную эпоху оно все более претерпевает массированное анонимное воздействие «культурных индустрий», в первую очередь, сетей Интернет и СМИ: вменяемые индустриями матрицы сильно отличаются и отрываются от личного опыта людей;
-
- конвейерное проникновение этих матриц в повседневную жизнь столь велико, что совсем не подвергаться их влиянию невозможно: образуется некий сплав «личного опыта» индивида и той динамической системы стереотипов восприятия и эталона интерпретаций, которые задаются СМИ;
-
- культурные индустрии, являющиеся частью экономического механизма постиндустриального рыночного общества, массово вбрасывают в повседневное сознание, прежде всего, ценности потребления и удовлетворения личных желаний при минимальном сохранении общегуманистических ориентиров;
-
- выработка собственной, не зависящей от потребительских штампов точки зрения, выступает в западном мире, где родились культурные индустрии, делом лишь самого индивида, способного все же дистанцироваться на базе личного опыта от вменяемых ему матриц.
Для российского общества – даже при условии сохранения сугубо рыночных экономических механизмов – сегодня открыта возможность частичной переориентации культурных индустрий на задачи гуманистического воспитания российского гражданина. В этом случае такая массовая и могучая форма влияния на мировоззрение, как культурные индустрии, получит позитивное содержание, связанное с идеалами человеческого блага и перспективного развития для всех членов общества, с представлением о человеке как целостном и разумном деятеле.
Список литературы Культурные индустрии как фактор формирования обыденного сознания современного человека
- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального прогнозирования / пер. с англ. Москва: Academia, 1999. 783 с.
- Бодийяр Ж. Симулякры и симуляция. Москва: Рипол-классик, 2017. 320 с.
- Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. / пер. с фр., послесл. и примеч. Е. А. Самарской. Москва: Культурная революция; Республика, 2006. 269 с.
- Бодрийяр Ж. Система вещей. Москва: РУДОМИНО, 2001. 224 с.
- Дугин А. Г. Постфилософия. Москва: Евразийское движение, 2009. 744 с.
- Золотухина-Аболина Е. В. Повседневность и другие миры опыта. Москва: МарТ, 2003. 192 с.
- Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. Москва: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.
- Левит М. В. Классическое образование в постнеклассическую эпоху // Проблемы современного образования. 2011. № 3. С. 27-38.
- Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. Understanding Media: The Extensions of Man / пер. с англ. В. Г. Николаева. 2-е изд. Москва: Гиперборея: Кучково поле, 2007. 462 с.
- Мареева Е. В. Культурология или философия культуры: истоки методологического конфликта // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2021. № 1(99). С. 52-61.
- Некрасова Н. А., Некрасов С. И. Мировоззрение как объект философской рефлексии // Современные наукоемкие технологии. 2005. № 6. С. 20-23.
- Тоффлер Э. Шок будущего / пер. с англ.: Е. Руднева и др. Москва: АСТ, 2003. 557 с.
- Тросби Д. Экономика и культура / пер. с англ. И. Кушнаревой; 2-е изд. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2018. 256 с.
- Фромм Э. Человек для самого себя // Фромм, Э. Психоанализ и этика. Москва: Республика, 1993. С. 17-191.
- Хезмондалш Д. Культурные индустрии / пер. с англ. И. Кушнаревой. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. 455 с.
- Черников И. А. Креативные индустрии в контексте модернизационных процессов в российской культуре // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2021. № 5(103). С. 92-103.
- Шюц А. О множественных реальностях // Мир, светящийся смыслом. Москва: РОССПЭН, 2004. С. 401-455.
- Ярошенко Н. Н. Индустрия развлечений в пространстве современных культурных практик // Международный журнал исследований культуры. 2017. № 1 (26). С. 112-122.