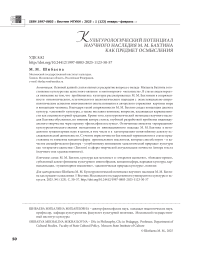Культурологический потенциал научного наследия М. М. Бахтина как предмет осмысления
Автор: Шибаева М.М.
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 1 (123), 2025 года.
Бесплатный доступ
Основой данной статьи является раскрытие вопроса о вкладе Михаила Бахтина в постижение культуры как целостного явления и многомерного «метатекста». В статье акцентируется внимание на том, что проблематика культуры рассматривалась М. М. Бахтиным в сопряженности онтологического, эстетического и аксиологического подходов с экзистенциально антропологическим аспектом многовекового опыта познания и авторского отражения картины мира и концепции человека. Благодаря такой сопряженности М. М. Бахтин создал концепции диалога культур, «смеховой» культуры, а также поставил комплекс вопросов, касающихся карнавальности как социокультурной традиции. Кроме того, культурологический потенциал научного наследия Бахтина обусловлен, по мнению автора статьи, глубокой разработкой проблемы индивидуального творчества через призму «философии поступка». Отмеченные моменты «приращения» культурологического знания неотделимы от инновационного подхода М. М. Бахтина к методологии гуманитарных наук в целом, в том числе и к категориально понятийному аспекту исследовательской деятельности. С учетом эвристичности бахтинской терминологии в статье представлены те элементы концептосферы оригинального мыслителя, которые способствуют в качестве специфического фактора углубленному пониманию «диалогической природы» культуры как «открытого единства» (Бахтин) и сферы творческой актуализации личности Автора текста (научного или художественного).
М. м. бахтин, культура как метатекст и «открытое единство, «большое время», субъектный аспект феномена культурного многообразия, концептосфера, карнавализация, «гуманитарное мышление», «диалогическая природа культуры», полилог, народная культура
Короткий адрес: https://sciup.org/144163381
IDR: 144163381 | УДК: 8.82 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-1123-50-57
Текст научной статьи Культурологический потенциал научного наследия М. М. Бахтина как предмет осмысления
В руках Бахтина эстетика и искусство, наука и культура, теория и жизнь впервые оглянулись на взаимные культуротворческие возможности К. Г. Исупов
Все размышления Бахтина имеют единый смысл (идею). Этот смысл – культура
В. С. Библер
Мое слово останется в продолжающемся диалоге, где оно будет отвечено, услышано и переосмыслено
М. М. Бахтин
В реалиях активизации исследовательского интереса к гуманитарному «полю проблем» все более очевидной становится тенденция плодотворного развития культурологического направления. Как известно, с конца
Х1Х века и по наши дни данная тенденция, по-разному обнаруживая себя, формировалась в отечественной и зарубежной гумани-таристике. Так, по справедливому суждению Л. Н. Воеводиной, «в отечественной тради- ции развитие культурологии было связано не столько с развитием этнографии, сколько с общественными и гуманитарными науками, прежде всего с философией, историей, литературоведением, искусствознанием». [8, с. 29]. Отсюда разные приоритеты в предметной области культурологии: если за рубежом, как правило, доминировала установка на изучение и анализ культурной повседневности, на выявление эмпирических параметров образа жизни и массового сознания, то для предметной области отечественной культурологии характерно обостренное внимание к задачам постижения «смыслового (диалектического) и диалогического взаимодействия текстов» [6, с. 476]. В этой связи стоит обратиться к вопросу о культурологической значимости ключевых идей и концептов Михаила Михайловича Бахтина (1895–1975) – оригинального мыслителя, труды которого получили признание в научном мире как в нашей стране, так и за ее пределами. То обстоятельство, что в последние десятилетия видное место в пространстве гуманитарного мышления занимает рецепция интеллектуально-творческого наследия М. М. Бахтина, подтверждается не только в кумулятивном, но и в эвристическом отношении. О неослабевающем интересе к содержательно-стилистическому своеобразию его наследия свидетельствует как систематическое переиздание трудов ученого, так и число международных конференций, семинаров и круглых столов, посвященных личности и научным изысканиям М. М. Бахтина: их ценностно-смысловой контекст и тональность пронизаны мотивами признания его существенного вклада в «новое обоснование культуры».
Отсюда, думается, целесообразность «вживания – вчувствования»1 в содержательные пласты бахтинского наследия, каждая из граней которого в той или иной мере со- относится с культурологическим «полем проблем» теоретического, историософского и экзистенциально-антропологического характера. При этом важно иметь в виду, что сам М. М. Бахтин объяснял сущность своего подхода к предмету рефлексии как методологию «гуманитарного мышления». Эвристический потенциал данной методологии проявляется не только в филологической и герменевтической сферах гуманитарного знания, но и в культурологической. По справедливому утверждению В. С. Библера (одного из самых авторитетных исследователей бахтинского наследия), « … о чем бы ни писал М. М. Бахтин, – о поэтике романов Достоевского, или о творчестве Франсуа Рабле, или – о романе Воспитания, он – одновременно – воспроизводил некое культурное действо (событие), некий особый социум культуры…» [7, с. 78]. Такого рода умозаключение автора монографии «Михаил Бахтин, или Поэтика культуры» подтверждается контекстом и неповторимой стилистикой всего бахтинского наследия. В связи с этим стоит отметить, что ученый придавал литературным произведениям статус культурного текста, который «имеет субъекта, автора» [6, с. 474]. Причем в интерпретации М. М. Бахтина автор предстает не только как создатель уникальных текстов, которые «разбивают грани своего времени, живут в веках, то есть в большом времени» [5, с. 504], но и как человек культуры2.
Исходя из убежденности в том, что «предмет гуманитарных наук – выразительное и говорящее бытие», которое «неисчерпаемо в своем смысле и значении» [3, с. 516], Михаил Бахтин рассматривал сферу словесного творчества не только в филологическом, но и в культурфилософском дискурсе. Характерная для бахтинского мышления сопряженность обоих дискурсов проявляется в определении культуры как метатекста.
2 Развернутое пояснение этого словосочетания, неотделимого от проблематики субъекта познавательно-креативных процессов, дано в моей статье «Человек культуры как ценностно-смысловая и творческая явленность Имени» [14, с. 30–38].
По сути в оптике бахтинских размышлений авторский опыт интеллектуального или образного отражения неисчерпаемости многомерного бытия и его «ценностных моментов» предстает в качестве своеобразного катализатора мировоззренческих исканий, вписанных в смысловое пространство культурноисторической эпохи. В свете этого примечателен один из ответов М. М. Бахтина на вопросы редакции журнала «Новый мир». Утверждая, что «литературоведение должно установить более тесную связь с историей культуры», он подчеркнул, что литература является «неотрывной частью культуры, ее нельзя понять вне целостного контекста всей культуры данной эпохи» [4, с. 502]
Как видно из «знаковых» публикаций Бахтина, он трактовал динамичную и многогранную систему культуры в двух планах: как «метатекст» , интегрирующий множественность авторских высказываний в адрес различных проблем жизнедеятельности общества и личности, и как онтологическое явление, обладающее всеми признаками «открытого единства». Примечательно в этой связи, что, разделяя ряд идей ведущих представителей философии жизни (Вильгельма Дильтея, Георга Зиммеля и Освальда Шпенглера), Михаил Бахтин отвергал, тем не менее, их взгляд на культуру как самодостаточную, замкнутую на себе систему смыслов и значений. В частности, в своем интервью редакции журнала «Новый мир», он объяснил свое несогласие с представлением Шпенглера о культуре эпохи как о «замкнутом круге»3 тем, что «единство определенной культуры – это открытое единство» [4, с. 506] в силу «диалогической природы культуры».
Отсюда и одна из ключевых идей в куль-турфилософской рефлексии М. М. Бахтина: «Самосознание культуры есть форма ее бытия на границе с иной культурой» [3, с. 521], вследствие чего возникает модальность межкультурных контактов и «встреч разных сознаний». Рефлексия Бахтина над событийноценностной сущностью такой встречи – еще одна грань его многомерного наследия. Придавая важное и плодотворное значение встречам «разных сознаний», М. М. Бахтин раскрыл, по сути, аксиологические, гносеологические и этические факторы диалога культур. Модальность продуктивной встречи разных типов культур Бахтин связывал прежде всего с этикой восприятия и оценки текстов, созданных в предшествующие эпохи. Как заметил М. Л. Гаспаров, у Бахтина «пафос диалога» исполнен «активного отношения к наследию» [9, с. 34]. Справедливость данного суждения трудно оспорить в свете бахтинской идеи содержательного диалога контекста «Большого времени» с контекстом «малого времени» создания «знаковых» текстов, рожденных в социокультурных реалиях биографического времени Автора. Наряду с этим заметное место в учении Бахтина о диалоге культур занимают актуальные вопросы межкультурного общения в контексте реальных процессов. Придавая большое значение диалогу национальных культур, мыслитель подчеркивал познавательную ценность процесса «встречного движения» их друг к другу. Свидетельство тому – следующее умозаключение Бахтина: «Мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы на наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые смысловые глубины» [4, с. 508]. Важно иметь в виду и то, что в бахтинском учении о диалоге культур акцентируется взаимообусловленность содержательно-стилистических аспектов «встречного движения» национальных культур. Продуктивность сопряжения этих граней межкультурного общения в значительной степени зависит, по мнению М. М. Бахтина, от глубины понимания исторических и ментальных особенностей «своей» и «чужой» культуры.
Думается в этой связи, что вклад Бахтина в расширение культурологической сферы гуманитарного знания проявляется в раз- работке проблемы понимания культурного наследия и актуальной культуры. Инновационный характер бахтинского опыта осмысления культуры как метатекста посредством метода «диалогической герменевтики» дали основание для признания Михаила Бахтина «скульптором новых архитектоник понимания и описания» [11, с. 8].
Культурологическую значимость данного метода трудно переоценить, во-первых, с точки зрения гносеологического потенциала интерпретации «знаковых» текстов различного типа и жанра; во-вторых, – в плане модальности постижения гуманитарно-творческой сущности культуры как «открытого единства»; в-третьих, – в ракурсе сопряжения текстуального фонда социума с личностным фактором его обновления и обогащения. Стоит также отметить, что М. М. Бахтин, используя метод «диалогической герменевтики», уделил особое внимание вопросу о «встрече двух текстов – готового и создаваемого, реагирующего текста, следовательно, встрече двух субъектов» [6, с. 477]. Имея в виду проблемный характер такого рода встречи, М. М. Бахтин ввел в свою концепцию диалога культур такие понятия, как «далекие контексты» и «дальний собеседник» .
Установка Михаила Бахтина на концептуализацию собственной позиции относительно творческой энергетики «открытого единства» культуры и экзистенциальноантропологического фактора ее развития мотивировала на терминологическое обновление гуманитарного мышления. Смысловая ёмкость бахтинской рефлексии и особый стиль аргументации нуждались в преодолении устоявшихся стереотипов вербализации исследовательской позиции. Стремление ученого к терминологическому «преодолению» сложившихся стереотипов восприятия и односторонней оценки культурных трансформаций обусловило наличие в ценностносмысловом пространстве научного наследия Бахтина разработанной им авторской концеп-тосферы. В свете этого уместно напомнить о том, что в статусе научного понятия термин
«концептосфера» был впервые использован в отечественной гуманитаристике Д. С. Лихачевым, утверждавшим, что «главное богатство русского языка лежит на уровне концептов и концептосферы» [12, с. 162]. Справедливость данного суждения подтверждается полисемантикой бахтинских концептов и оригинальных лексических построений, активизирующих исследовательский поиск в сфере современной культурологии. Неслучайно в оценке автора «Русской думы» М. М. Бахтин характеризуется как «Серафим Саровский Культуры в лесах Слова» [10, с. 147].
Действительно, интеллектуальная энергетика научных изысканий Михаила Бахтина проявляется в их рефлексивнотерминологической оригинальности, или, говоря его же словами, в «единственной неповторимости». Думается в этой связи, что присущая «гуманитарному мышлению» Михаила Бахтина взаимообусловленность контекстуального подхода к объекту исследования и креативного отношения к вербализации авторской позиции являет собой разновидность «дерзания духа» (А. Ф. Лосев).
Творческий подход Бахтина к терминологическому фактору концептуализации исследовательской позиции проявился в смысловом обогащении понятий, используемых в сферах, далеких от гуманитарной. Так, плодотворным результатом для развития гуманитарнокультурологической мысли стало введение ученым в пространство культурфилософской рефлексии таких понятий, как «хронотоп», «амбивалентность» и «полифония» .
В частности, придавая дополнительный, а именно – гуманитарный – смысл такому термину русского физика Ухтомского, как «хронотоп», М. М. Бахтин не только трактовал его как темпорально-пространственную определенность каждой конкретной эпохи («малого времени», по его выражению), в реалиях которой были сотворены авторские тексты-высказывания, но и плодотворно спроецировал на проблематику культурных трансформаций в сопряжении прошлого, настоящего и будущего. В результате сфера культурологи- ческого знания обогатилась концептом «хронотоп культуры». Трактуя культуру «не как сумму явлений, а как целостность» [3, с. 514], ученый конкретизировал свое понимание данной целостности через словосочетание «пространственно-временной континуум». Тем самым расширялись возможности для осмысления своеобразия культурного облика любой эпохи неотрывно от причинноследственных аспектов трансформации культурных норм, ценностей и образцов.
Столь же продуктивно в проблемное пространство «наук о культуре» было введено Михаилом Бахтиным понятие «амбивалентность», восходящее к работам швейцарского психиатра Эйгена Блейлера. Гносеологическую ценность данного понятия применительно к методологии гуманитарных наук М. М. Бахтин усматривал в том, что амбивалентность означает разнообразие и сложность таких состояний и переживаний, которые не сводимы к «духу противоречия», а являют собой опыт «смешанных чувств» и ситуативных моментов «разномыслия». Отсюда убежденность М. М. Бахтина в том, что посредством понятия «амбивалентность» в значительной степени совершенствуется процесс понимания культурных текстов как авторских высказываний в адрес «ценностного плана бытия». Ввод Бахтиным в сферу гуманитарных наук понятия амбивалентности обогатил спектр возможностей контекстуального постижения культурологической проблематики. «В бахтинском смысле «амбивалентность», подчеркивал В. С. Библер, – это двойственность и внутренняя диалогичность» [7, с. 105].
Наиболее зримо гносеологический потенциал понятия «амбивалентность» был явлен в бахтинской концепции феномена карнавальности, неотделимого от смеховой традиции народной культуры. По Бахтину, смеховая традиция развивается в сопряжении народной повседневной культуры со «стихией жизни». На основе сопряжения основных параметров карнавальности с содержательностилистическими особенностями романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» М. М. Бахтин раскрывал сущность карнавала как коллективного вызова нормативным ограничениям официальной культуры, то есть, по сути, как ответную реакцию масс на регламентацию коммуникативных и поведенческих моментов социальной жизни. Такой взгляд на природу и энергетику «народного смеха» активизировал исследовательский интерес к специфике и социально-психологическим аспектам массового творчества. Как отмечал в своей работе «Смех Панурга и философия культуры» Л. М. Баткин, бахтинское понимание сущности коллективного смеха «позволяет приблизиться к пониманию массовой культуры» [1, с. 400].
Расширению спектра гносеологических возможностей осмысления целостного контекста и качественных характеристик культуры как метатекста способствовало, на мой взгляд, и проецирование М. М. Бахтиным на сферы гуманитарных наук (первоначально – на филологию. а позднее на культурное «поле проблем») музыковедческого понятия «полифония». Как известно, явно инновационным «приращением» для отечественной и зарубежной филологии явилась разработанная на основе анализа творчества Ф. М. Достоевского и Франсуа Рабле полифоническая теория романа как многослойного диалогического пространства сопряжения Автора и героя. Придавая содержательно-смысловую значимость текстам как «событиям» в области словесного творчества, Михаил Бахтин впоследствии использовал понятие полифонизма и в своих размышлениях о культуре как ценностном фонде текстов. Согласно Бахтину, понятие полифонии означает «множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний» [3, с. 520].
Вовлечение М. М. Бахтиным в собственное пространство рефлексии понятий, характерных для иных научных дискурсов, активизировало творческий поиска ответов на ряд вопросов познавательно-творческого характера и способствовало обновлению и углублению методологии научных изысканий в сфере гуманитарного знания. Инновационный характер и концептосферы Бахтина, и его учения о «диалогической природе культуры», и о сме-ховом пласте этнокультурного опыта обескураживали приверженцев консервативных подходов к науке.
Ещё в большей мере новаторство «научного гения Бахтина» (Ю. М. Лотман) проявилось в разработке его собственных понятий – столь же многозначных, сколь и «единственных в своем роде». Установка Михаила Бахтина на концептуализацию собственной позиции относительно сущности культуры как «выразительного и говорящего бытия» мотивировала на преодоление языковых штампов презентации авторской мысли и однозначно тривиальных умозаключений и схематизма. Смысловая емкость и особая тональность бахтинских неологизмов и лексических построений – плод интеллектуального подвижничества в поиске ответов на вопросы культуротворческого и экзистенциального характера.
Через призму собственных концептов мыслителем был отрефлексирован и научно обоснован ряд значимых для развития теоретической и исторической культурологии пласта идей. С этой точки зрения уместно воспроизвести тот ряд авторских концептов М. М. Бахтина, благодаря которому стал возможным «прорыв» в контекст культурной динамики, с одной стороны, и в мотивационнодеятельные аспекты бытия человека как субъекта ценностных отношений и творческой деятельности, с другой.
Свидетельство тому – уникальный «фонд» сугубо авторских терминов Бахтина: «Большое и малое время»; «смысловое единство мира»; диалогическая природа культуры; «карнава-лизация», «смеховая культура», «разноречие»; «архитектоника действительного мира, не мыслимого, а переживаемого», «гуманитарное мышление»; «монологизм» и «диалог»; «философия поступка», «ответственное поступление», «мотивационный контекст творчества» и «не – алиби – в бытии»; «моя причастная единственность»; «персонали-стичность смысла»; «незавершимость» .
Погружение в контекст бахтинского наследия дает основание для выделения в авторской концептосфере мыслителя двух групп ключевых для него терминов и словосочетаний: вектор одной из них направлен на «целостный контекст всей культуры» [4, с. 502], а другой – на субъекта познавательно-творческого процесса и диалога культур, то есть на личностный фактор обогащения и обновления фонда культурных текстов различного вида и жанра. Равноценность обеих групп обусловлена тем, что каждая из составляющих бахтинской концептосферы способствует углублению понимания определенных явлений и проблем как культурологического, так и экзистенциально-аксиологического характера.
«Неповторимая единственность» Михаила Михайловича Бахтина, его «вдохновенный стиль и неустрашимость концепций» [4, с. 401], подтверждаются также и уникальностью его воззрений на личностный фактор развития культуры, в пространстве которой формируется, циркулирует и трансформиру- ется круг определенных смыслов и значений. Именно потому, что «текст для Бахтина был личностью» [11, с. 10]. Тема Автора культурного текста сопровождала мыслителя всю профессиональную жизнь. У М. М. Бахтина Авторское начало не сводилось исключительно к результатам индивидуального творчества, а рассматривалось через призму философии поступка. Сердцевину этого сег- мента бахтинского наследия составляет рефлексия над этическими и экзистенциальноантропологическими факторами творчества в целом и процессами создания авторских текстов в частности. В трудах Бахтина о Достоевском и Рабле Автор предстает как особый тип субъекта, обновляющего своим творчеством ценностно-смысловое пространство, как «малое», так и «большое» время культуры.