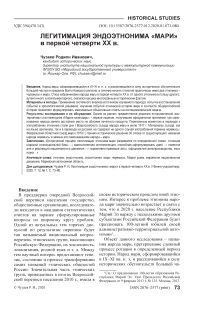Легитимация эндоэтнонима "мари" В первой четверти ХХ в.
Автор: Чузаев Родион Иванович
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. Народ мари, сформировавшийся в IX-XI в. н. э. и расселившийся в силу исторических обстоятельств большей частью в пределах Волго-Камского региона, в течение многих столетий практически имел два этнонима - черемисы и мари. Отказ избранниками народа мари в первой четверти ХХ в. от одного этнонима в пользу другого, аутентичного и комплиментарного, оказался весьма многогранным историческим фактом. Материалы и методы. Применение системного анализа источников изучаемого периода, попытка восстановления событий в хронологической динамике, изучение событий этнической истории мари в контексте общероссийской истории позволяют формулировать максимально объективные ответы на исследовательские задачи. Результаты исследования и их обсуждение. Одним из ранних предвестников решения этнонимической альтернативы стал ежегодник «Марла календарь» - первое издание, получившее официальное признание, где самоназвание народа заняло достойное место на обложке печатного продукта. Переломным моментом в переходе к употреблению этнонима стали дни I Всероссийского съезда народа мари в июле 1917 г. Материалы съезда, как на языке оригинала, так и в переводе на русский, не содержат ни одного случая употребления термина черемисы. Февральский областной съезд мари (1918 г.) принял историческое решение об отказе от существующего названия народа черемисы и замене его самоназванием народа - мари. Заключение. Исторический процесс легитимации этнонима мари развивался по определенной схеме: «позиция широкой этносоциальной базы → малочисленная интеллигенция, способная сформулировать идеи → повестка дня и резолюции национального движения → нормативно-правовые акты, официальное делопроизводство, язык науки…».
Этноним, эндоэтноним, экзоэтноним, мари, черемисы, марий ушем, марийское национальное движение, марийская автономная область
Короткий адрес: https://sciup.org/147217971
IDR: 147217971 | УДК: 394(470.343) | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.01.073-080
Текст научной статьи Легитимация эндоэтнонима "мари" В первой четверти ХХ в.
В преддверии очередной Всероссийской переписи населения государство, общественные организации, исследователи находятся в ожидании статистических ответов на заранее сформулированные вопросы по широкому кругу проблем. Одной из актуальных тем горячих дискуссий по результатам переписи будет так называемый национальный вопрос: перечень этнических групп, населяющих Российскую Федерацию, их численность, локализация, родной язык и т. д. Между тем научный интерес представляют генезис, состояние и процесс трансформации самих названий этнических общностей России. Значительная часть этнических групп, приведенных в итогах Всероссийской переписи населения 2010 г., имела в
своем историческом прошлом иной этноним. Интерес к проблеме этнонима народа мари значительно возрастает в связи с тем, что в 2020 г. население Республики Марий Эл наряду с несколькими другими субъектами Российской Федерации будет праздновать 100-летний юбилей своей административно-территориальной авто-номии1.
Объект данного исследования – названия народа мари, претерпевшие сложный процесс ротации в определенный период истории. Народ мари, сформировавшийся в IX–XI вв. н. э. и расселившийся в силу исторических обстоятельств большей ча-
^и1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ стью в пределах Волго-Камского региона, в течение многих столетий имел практически два этнонима – черемисы и мари . Не претендуя на объективность взгляда на ранний период истории народа, полагаем, что с XVI в., когда мари включились в орбиту политики Московского государства, этноним черемисы стал исключительным в официальном употреблении, сам же народ воспринимал его негативно, предпочитая эндоэтноним мари .
В качестве предмета исследования выступает стремительный по историческим меркам процесс легитимации этнонима мари в первой четверти ХХ столетия. Воссоздание хроники взаимообусловленных событий исторического процесса восстановления законного статуса самоназвания мари с выявлением внутренних и контекстных факторов составляет цель данного исследования.
Отказ избранниками народа от одного этнонима в пользу другого, аутентичного и комплиментарного, оказался весьма многогранным историческим фактом. Трансформация коллективного сознания, культурный рывок, политические дивиденды – далеко не полный перечень производных события. Следовательно, актуализированный в статье предмет исследования представляет непосредственный интерес не только для исторической, но и для политической науки, этнопсихологии, культурологии, социолингвистики.
Обзор литературы
Проблема этнонимов в связке с проблемой этногенеза народа мари в течение нескольких десятилетий остается дискуссионной, периодически будируя исследовательский интерес археологов, историков, языковедов. В 1960-е гг. в изучении этнонимов в стране наблюдалась некоторая активизация, на волне которой появились работы марийского языковеда Ф. И. Гордеева [2; 3]. В 1967 г. в Институте этнографии АН СССР сформировалась и приступила к работе группа ономастики, объектом исследований которой стали этнонимы. Одним из первых резонансных результатов работы группы явился сборник статей «Этнонимы» [12], вклю- чивший вводную статью по типологиза-ции этнонимов и исследования этимологии и локализации отдельных этнонимов. При отсутствии прямого упоминания мари или черемис статьи содержат указание на возможные векторы научных поисков.
В последующие десятилетия проблеме этнонимов народа мари посвящались труды языковедов И. Г. Иванова [5], Д. Е. Казанцева [6], историков А. Г. Иванова и К. Н. Санукова [4], этнолога Г. А. Сепеева [8].
Из современных отечественных исследований несомненный интерес для нас представляет статья С. Г. Кудаевой [7], в которой утверждается, что этноним помимо этногенетических и географических характеристик выполняет функцию этноидентификации. В определенных исторических обстоятельствах эта функция может сыграть ключевую консолидирующую роль.
Несмотря на наличие значительного числа исследований, посвященных названиям народа мари, остается слабо изученным круг вопросов, связанных с хроникой и технологией легитимации этнонима мари в первой четверти ХХ в.
Материалы и методы
Источниковую базу исследования составили материалы, хронологически отражающие переход от одного этнонима к другому. Материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. и официальные издания рубежа XIX–XX вв. содержат этноним черемисы . Материалы марийского национального движения 1917–1918 гг., в частности протоколы I Всероссийского съезда мари (Бирск, июль 1917 г.) и Февральского областного съезда мари (Казань, февраль 1918 г.), отражают перелом в употреблении названия марийского народа. Нормативно-правовые и административные документы периода создания и первых лет существования Марийской автономной области, декреты за подписью руководителей Советской России о создании Марийской автономной области означают официальное признание этнонима мари .
Теоретическую основу исследования составили труды признанных советских и российских ученых С. А. Арутюнова [1], В. А. Тишкова [9; 10], Н. Н. Чебок-сарова [11]. Существующий некоторый диссонанс в их взглядах на проблему обусловлен главным образом социально-политической, идеологической атмосферой соответствующего периода и состоянием развития исторической и этнологической мысли.
Достижение исследовательской цели обеспечивалось применением системного анализа источников изучаемого периода, попыткой восстановления событий в хронологической динамике. Изучение событий этнической истории мари в контексте общероссийской истории позволяет формулировать максимально объективные выводы.
Результаты исследования и их обсуждение
За всеобщим вниманием к 100-летию Великой российской революции следует череда юбилейных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики в первые послереволюционные годы.
Обретению народом мари своей национально-территориальной автономии (1920 г., 4 ноября) предшествовало уникальное и в то же время закономерное явление – массовое национальное движение, одним из вопросов повестки дня которого стал незапланированный изначально вопрос об отказе от официально используемого на протяжении нескольких столетий этнонима черемисы .
Этноним, определяемый И. С. Коном как «этническое самоназвание, собственное имя народа, этноса»2, является для этнической общности одним из ключевых символов. Для того чтобы быть таковым, название народа должно быть, во-первых, аутентичным, присутствующим в процессе этногенеза, а во-вторых, позитивно воспринимающимся если не абсолютным, то преобладающим большинством общно- сти. Это непременное условие единства, сплоченности и устойчивости этноса. Коллективная этническая самоидентификация формируется и поддерживается именно вокруг эндоэтнонима.
Что касается этничности как способа и степени переживания своей принадлежности к определенной этнической общности, то она также во многом зависит от состояния и статуса этнонима внутри общности и вне ее.
Интересным представляется вопрос о сопряжении признания этнонима на бытовом, стихийном уровне, уровне повседневного межкультурного контакта, с одной стороны, и на уровне государства в любом его проявлении – с другой. Нередки примеры перекоса то в одну сторону, то в другую. Оба случая чреваты этническим дискомфортом. Рано или поздно, в зависимости от внутренних и внешних факторов различного генеза, вопрос о признании эндоэтнонима должен актуализироваться и двигаться в направлении его положительного решения. Существование в политическом лексиконе таких понятий, как «непризнанные народы», «этническое меньшинство» и др., отчасти связано с состоянием этнонима.
Не меньший интерес представляет проблема экзоэтнонима: его происхождение, применение на различных этапах этнической истории, восприятие представителями самой общности.
Наиболее характерные пути происхождения экзоэтнонима можно попытаться изобразить в следующих схемах:
– перенос названия одного из субстратов, не обязательно самого многочисленного или влиятельного, участвующего в процессе этногенеза (это может быть как этническая фузия, так и миксация), на всю общность вопреки сформировавшемуся эндоэтнониму;
– механический перенос этнонима исторических предшественников (преемственность как генетическая, так и территориальная) на вновь образовавшийся этнос, т. е. трансформация эндоэтнонима в экзоэтноним;
– разделение практики обозначения этнической общности представителями властных структур или иными категориями населения с подачи власти от собственно самоназвания народа, ведущее антитезу «мы и они» и, следовательно, «эндоэтноним и экзоэтноним» к напряженной форме сосуществования, и т. д.
В задачи данного исследования не входит перечисление всех возможных схем формирования и бытования экзоэтнонимов. Приведенные схемы призваны демонстрировать обусловленность «внезапного» появления вопроса об отказе от этнонима черемисы в пользу самоназвания мари делегатами съезда мари в феврале 1918 г.
По мнению исследователей, как черемис , так и мари историко-генетически имеют реальные корни. Трактовка происхождения первого характеризуется значительным разбросом3 – от сармат [3] до племени Чера (Чора) [5], от « человека с солнечной стороны » [6] до « воинственного человека » [13]. Гипотезы охватывают весьма широкий круг контактировавших с ранними мари общностей и даже государств, соответственно спектр возможного происхождения этнонима черемис так же широк. Вместе с тем, усложняя задачу определения научной истины в вопросе о происхождении этнонима черемисы , множественность гипотез сходится в одном – в признании его инородного происхождения. Это справедливо даже в том случае, если Чера (Чора) было одним из древнемарийских племен.
Можно допустить, что в определенные периоды истории название черемисы могло позитивно восприниматься отдельными группами мари. Успешные рейды за пределы своей этнической территории, захват «полона» и/или имущества, контролирование торговых путей в условиях леса формировали своеобразный имидж воинственных племен. Но подобный позитив вряд ли мог распространяться на весь народ. После Черемисских войн второй половины XVI в., уже с XVII в. со стороны государства на черемис, как и на ряд других народов, стала распространяться политика ограничительных мер –
3 См.: Свечников С. К. История марийского народа IX–XVI веков: метод. пособие. Йошкар-Ола, 2005.
76 Финно-угорский мир. Том 12, № 1. 2020
в вопросах развития ремесел, землепользования, повинностей, вероисповедания и т. д. Неизменный экзоэтноним черемисы ( черемиса ) конкретизировался в зависимости от контекста – ясачная черемиса , служилые черемисы , новокрещеные или старокрещеные черемисы . Устав 1822 г. и последующие акты, регламентировавшие жизнь, точнее управление инородческими племенами, формально не затрагивали мари, однако уже со второй половины XIX в. вместе с другими народами Среднего Поволжья и Приуралья в документах, исходящих из-под пера чиновников, они прочно обрели статус «инородцы». Таким образом, к началу ХХ столетия мари под названием черемисы де-факто и де-юре стали инородцами в Российской империи.
Сложилась вполне определенная модель применения названий народа: в официальных документах, научных работах, периодической печати, публичных речах употреблялось название черемисы (даже если текст писался представителем мари), в повседневной жизни, в родной среде – самоназвание народа мари .
Модель, предельно простая на первый взгляд, оказалась сложной для восприятия формирующейся молодой марийской национальной интеллигенции. Противоречивость модели применения названий родного народа практически «раздваивала» их сознание. С одной стороны, они с первых дней своей жизни слышали и употребляли слово мари во всех его значениях, содержательных тональностях, органично вживались и составляли целостное единство со всеми ценностями, материальными и нематериальными, с самим пространством, связанным с этим априори родным словом. С другой стороны, школа, семинария, книги, официальные документы – вся система, формировавшая их как людей образованных и дававшая дипломы духовных или светских учебных заведений, называла их народ не иначе как черемисы . Формировался, как сказали бы сегодня, «двойной стандарт» в обращении к родному народу.
К важнейшим официальным источникам информации о легитимных этнонимах народов России можно отнести материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г.4 Ее итоги по Вятской5, Казанской6, Уфимской7 губерниям содержат прямые или косвенные упоминания этнонимов. В частности, в вопросах о грамотности, вероисповедании, семейном состоянии, физических недостатках граждан, о распределении населения по группам занятий сводные статистические таблицы составлены в разрезе родных языков, среди которых указан черемисский. Кроме того, в аналитической статье П. Бечаснова в материалах переписи по Вятской губернии приводятся некоторые суммирования носителей родственных языков. Так, поясняется, что термином «финские» в ней обозначаются «главным образом – вотяки, черемисы и пермяки»8.
Одним из ранних предвестников решения этнонимической проблемы стал факт выхода в свет ежегодника «Марла календарь»9. Исследователями немало сделано в плане изучения и оценки значения данного издания для становления марийского печатного слова. В контексте нашего исследования «Марла календарь» сыграл неоценимую роль, стал своеобразным пионером, первым изданием, получившим официальное признание, где самоназвание народа заняло достойное место на обложке печатного продукта. Сегодня сложно представить, что долгожданный и полюбившийся народом календарь мог бы называться «Черемисским».
Название ежегодника «Марла календарь» в плане признания этнонима мари было скорее исключением, чем отражением каких-то тенденций. Немногочисленные опубликованные в межреволюцион- ный период работы Валериана Васильева и его единомышленников не меняли общее состояние вопроса. Деловая переписка государственных чиновников, материалы думских слушаний10, продолжавшие выходить результаты этнографических, лингвистических, исторических изысканий свидетельствовали о неизменности экзоэтнонима черемисы. Например, финский исследователь Уно Хольмберг в известных «письмах» 1911 и 1913 гг. описывает жизнь вотяков и черемис11.
1917 г., не меняя в целом практику применения термина официально-научными источниками, стал переходным в собственно марийской интеллигентской среде. Документ, ставший предвестником надвигавшегося марийского национального движения, назывался «Устав Бирскаго общества Черемис, Уфимской губернии»12. «Черемисская секция Общества мелких народностей Поволжья», «Казанская черемисская военная организация» и другие названия организаций или документов в рамках марийского национального движения 1917 г. отражали существовавшую инерцию в вопросе названия народа. Между тем именно 1917 г. стал первым годом широкого, действительно массового применения самоназвания народа мари . «Марий ушем», «Марий погын», «Марий калык», «Революционный батальон мари», «Комитет мари» – все эти и другие устойчивые словосочетания, звучавшие в устной и письменной речи, оказались способными в революционно короткие сроки трансформировать коллективное сознание народа.
«Водоразделом» в употреблении этнонима мари стали дни I Всероссийского съезда народа мари (Бирск, 15–23 июля
1917 г.). Материалы съезда (протоколы, постановления) на языке оригинала13, представленные на 24 страницах машинописного текста, не содержат ни одного случая употребления термина черемисы или черемисский . Учитывая, что марийское национальное движение, обретавшее во второй половине 1917 г. массовый характер, идейно и содержательно опиралось на решения Бирского съезда, можно предположить, что именно в указанный период происходил массовый целенаправленный отказ от применения этнонима черемисы и переход к использованию этнонима мари .
К январю – февралю 1918 г. сложилась закономерная ситуация в вопросе развития национального самосознания мари, обусловленная, как минимум, двумя факторами. Первый из них заключался в сфор-мированности массового сознания мари, закрепленного в названиях многочисленных общественных организаций мари в масштабах отдельных деревень, волостей, уездов, губерний и на всемарийском уровне (Центральный союз мари). Письменная фиксация любой идеи или нарратив, исходящий от самих мари в данный период, содержит исключительно эндоэтноним мари . Второй фактор связан с развитием политической ситуации в стране. Советская власть на этапе собственного становления, переживая острую необходимость в расширении социальной базы, не могла «не замечать» национальные движения народов внутренней России и периферий, а была вынуждена включиться в них и, по возможности, управлять ими.
Именно в такой ситуации работал Февральский областной съезд мари (Казань, февраль 1918 г.). Съезд, признавший безальтернативность Советов и проголосовавший за создание Комиссариата мари, принял историческое решение об «отмене существующего названия народа мари “Черемисы” ввиду его ненационального происхождения и замене его историче-ски-национальным именем “Марий”»14.
Решение оказалось назревшим и своевременным и, как следствие, получило последующую реализацию практически беспрепятственно. Подобный исход событий едва ли был возможен летом 1917 г., когда решение было обречено на декларативный характер, не подтвержденный официальными актами или даже акциями.
1918 г. стал решающим в легитимации эндоэтнонима. Рождение Комиссариата мари в Казани, Отдела мари при Народном комиссариате по делам национальностей означало введение этнонима мари в официальный язык в Советской России. Многочисленные директивы, анкеты, распоряжения исполнительных органов и должностных лиц различных уровней постепенно заменяли в документообороте термин черемисы на мари .
Образование Марийской автономной области (4 ноября 1920 г. – 1 марта 1921 г.) положило начало применению этнонима мари в названиях областных органов представительной и исполнительной власти, учреждений образования и культуры, предприятий и организаций – все это закономерно с учетом названия самой административно-территориальной автономии. Особого внимания исследователей заслуживает процесс замены этнонима в названиях населенных пунктов.
В настоящее время перечень наименований населенных пунктов Республики Марий Эл на государственных языках Республики Марий Эл15, размещенный на официальном портале Правительства Республики Марий Эл, включает не менее 68 поселений различных типов, содержащих в своем названии этноним мари . Приведем их распределение по муниципальным районам: Волжский – 3, Горномарийский – 5, Звениговский – 6, Килемарский – 3, Куженерский – 4, Ма-ри-Турекский – 14, Медведевский – 2, Моркинский – 3, Новоторъяльский – 6, Оршанский – 2, Параньгинский – 8, Сер-нурский – 8, Советский – 4.
Заключение
Народ мари со времени выхода в свет первого номера ежегодника «Марла календарь» (1906) в течение примерно двух десятилетий вернул свое историческое имя. Уже около века этноним мари не нуждается в комментариях авторов, подобных тем, что делал Н. В. Никольский на титульном листе своего исследования в 1920 г.16 В ходе этого исторического процесса отчетливо прослеживалась схема поэтапной трансляции этнической идеи: «позиция широкой этносоциальной базы → малочисленная интеллигенция, способная сформулировать идеи → повестка дня и резолюции национального движения → нормативно-правовые акты, официальное делопроизводство, язык науки…».
Данная статья, несмотря на однозначный вывод, далека от решения всего круга проблем, связанных с этнонимом мари . Отдельного изучения требуют многочисленные микроэтнонимы и их локализация. Ученые, а за ними педагоги и другие категории населения используют сегодня, как минимум, два варианта названия народа – мари и марийцы. Не отрицая субъективный характер своей позиции, во втором случае испытываю эффект взгляда на народ извне.
-
16 См.: Никольский Н. В. История мари (черемис). Казань, 1920.
Поступила 11.11.2019, опубликована 18.05.2020
Список литературы Легитимация эндоэтнонима "мари" В первой четверти ХХ в.
- Арутюнов С. А. Этничность - объективная реальность // Этнографическое обозрение. 1995. № 5. С. 7-10.
- Гордеев Ф. И. К вопросу о происхождении этнонима мари // Вопросы марийского языкознания. Йошкар-Ола, 1964. Вып. 1. С. 63-65.
- Гордеев Ф. И. Из истории этнонима черемис // Труды МарНИИ. Йошкар-Ола, 1964. Вып. 18. С. 207-214.
- Иванов А. Г., Сануков К. Н. История марийского народа. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2011. 188 с.
- Иванов И. Г. Еще раз об этнониме «черемис» // Вопросы марийской ономастики. Йошкар-Ола, 1978. Вып. 1. С. 44-47.
- Казанцев Д. Е. Формирование диалектов марийского языка: (В связи с происхождением марийцев) / науч. ред. И. С. Галкин. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1985. 159 с.
- Кудаева С. Г. Самосознание и самоназвание как основные этноидентифициру-ющие категории (на примере адыгского этноса) // Новые технологии. 2008. № 6. С. 92-96.
- Сепеев Г. А. История расселения марийцев. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2006. 200 с.
- Тишков В. А. Российский народ: история и смысл национального самосознания. Москва: Наука, 2013. 649 с.
- Тишков В. А. Российский народ: пространство и культура. Санкт-Петербург: СПбГУП, 2018. 32 с.
- Чебоксаров Н. Н. Проблемы типологии этнических общностей // Советская этнография. 1967. № 4. С. 94-109.
- Этнонимы: сб. ст. / Институт этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР; отв. ред. В. А. Никонов. Москва: Наука (Главная редакция восточной литературы), 1970. 271 с.
- Янтемир М. Н. Марийская автономная область: (очерк): (с приложением административной карты области). Йошкар-Ола: МГПИ, 2005. 186 с.