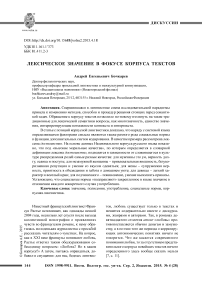Лексическое значение в фокусе корпуса текстов
Автор: Бочкарев Андрей Евгеньевич
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 4 (28), 2015 года.
Бесплатный доступ
Свершившаяся в лингвистике смена исследовательской парадигмы привела к изменению методов, способов и процедур решения стоящих перед семантикой задач. Обращение к корпусу текстов позволило по-новому взглянуть на такие традиционные для лексической семантики вопросы, как многозначность, единство значения, интерпретирующие возможности контекста и интертекста. В статье с позиций корпусной лингвистики доказано, что наряду с системой языка определяющими факторами смысла являются также разного рода социальные нормы в функции дополнительных систем кодирования. В качестве примера рассмотрена лексема достоинство. На основе данных Национального корпуса русского языка показано, что под «высокие моральные качества», по которым определяется в словарной дефиниции лексема достоинство, подводятся в зависимости от сложившегося в культуре распределения ролей самые разные качества: для мужчины это ум, верность долгу, осанка и поступь; для незамужней женщины - привлекательная внешность, безукоризненная репутация и умение со вкусом одеваться; для жены - супружеская верность, приятность в обхождении и забота о домашнем уюте; для девицы - легкий характер и веселый нрав; для подчиненного - повиновение, умение выполнять приказы. Установлено, что социальные нормы «подправляют» закрепленное в языке значение в отношении каждого конкретного случая употребления.
Значение, полисемия, употребление, социальные нормы, корпусная лингвистика
Короткий адрес: https://sciup.org/14969896
IDR: 14969896 | УДК: 811.161.1’373 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.4.18
Текст научной статьи Лексическое значение в фокусе корпуса текстов
DOI:
Известный французский лингвист Франсуа Растье вспоминает, как однажды весной 2004 года, несколько лет спустя после выхода коллективной монографии о проявлениях чувств во французском романе, к нему обратилась молоденькая журналистка с просьбой рассказать читателям о чувствах. На вопрос, как в XXI веке французы понимают любовь, Растье ответил таким обескуражившим собеседницу вопросом: «Любовь? Но в каком корпусе?» А затем, пытаясь оправдаться, добавил в смущении: для нас, бедных лингвис- тов, любовь существует только в текстах и меняется содержательно вместе с дискурсами, жанрами и авторами. Так, в романах девятнадцатого столетия amour «любовь» противопоставляется обычно деньгам и замужеству, а в поэзии того же периода о коррелирующих антонимических понятиях ничего не говорится. Что же касается современного понимания любви, то за отсутствием представительного корпуса новейших текстов ничего определенного здесь вообще сказать нельзя [7, с. 11].
Из такой, на первый взгляд, случайной реплики следуют принципиальные для семантики положения:
– современная лингвистика оперирует не высказываниями и даже не текстами, а корпусами текстов,
– определить анализируемый концепт можно только на каком-то построенном по случаю корпусе текстов,
– содержание концепта варьируется вместе с корпусом текстов, на котором его определяют в исследовании,
– конфигурация корпуса задается с учетом социальной практики, в том числе дискурсов и жанров.
Несколько слов о корпусных исследованиях. Появление корпусной лингвистики в научно-теоретическом отношении было подготовлено наметившимся в 60-е – 80-е гг. прошлого столетия обращением к языковым произведениям больше слова (высказываниям, текстам и интертексту), а в прикладном, сугубо техническом отношении – современными информационными технологиями, позволяющими создавать массивы текстовых данных гигантских размеров и оперировать такими массивами 1.
В этой связи не могут не возникнуть вопросы о том, как создаются корпусы текстов, чем отличаются друг от друга и какие требования должны предъявляться к создаваемым в исследовательской практике корпусам текстов. Прообразом корпуса можно отчасти признать, независимо от обсуждаемой научной проблемы, заявленный в диссертациях изучаемый материал 2, в значительно большей степени – тематические поэтические словари вроде «Образного арсенала русской лирики», а также исследовательские корпусы текстов, на которых в московской семиотической школе реконструируются основные тексты культуры: Петербургский текст, Московский текст, Лизин текст, Блоковский текст и т. д.
В отличие от конгломерата случайно подобранных текстов разных областей знаний и социальных практик исследовательский корпус формируется сообразно конкретной цели – изучить более или менее однородные языковые произведения на предмет возможных совпадений, соответствий и корреляций. В этом смысле идеальный корпус – это не множество случайно собранных воедино исторически засвидетельствованных текстов (например, Frantext), ни совокупность отдельных фрагментов и иллюстративных примеров из художественных произведений (например, British National Corpus), а особым образом упорядоченное семиотическое пространство – множество текстов общей «смысловой сферы» (М.М. Бахтин). В зависимости от решаемых в работе задач критерием отбора может служить и предметная область, и дискурс, и литературный род, и жанр, и жанровая разновидность, и тема, и стиль.
В предельно общем виде построенный в исследовании корпус структурируется наилучшим образом по таким глобальным переменным, как дискурс : литературно-художественный – юридический – научный; литературный род : поэзия – драма – эпос; жанр : роман – новелла – эссе; жанровые модификации : роман воспитания – роман-утопия – детектив – приключенческий роман; литературное направление : классицизм – романтизм – реализм – модернизм и т. д. Так любой исторически засвидетельствованный литературный текст подводится под парадигмы разной степени обобщения.
Действительно, будь то генезис или рецепция, ни один привлекаемый для разбора текст нельзя представить независимо от других более или менее сходных текстов, с которыми его связывает в рамках сложившейся социальной практики общность дискурса, жанра и стиля. Например, каким бы новаторским ни казался современникам роман Даниеля Дефо «Робинзон Крузо», он принадлежит литературному дискурсу, по жанру определяется как роман, по жанровой модификации – как роман-утопия, морской, авантюрный или бюргерский роман; и, следовательно, изучать его особенности можно, только в отношении ко всем прочим произведениям общей смысловой сферы 3.
Свершившаяся в лингвистике смена научной парадигмы не может не сказаться на методах, способах и процедурах решения стоящих перед семантикой задач. Больше того, избрание в качестве поля изучения корпуса засвидетельствованных языковых произведений позволяет по-новому взглянуть и на такие традиционные для лексической семантики вопросы, как многозначность, неоднозначность, единство значения, избираемые в качестве коррелята значения системы знания, условия истинности и верификации, интерпретирующие возможности контекста и интертекста и т. д.
Остановимся подробнее на некоторых из них.
Полисемия. В качестве примера поли-семического выражения возьмем рус. хворост. В словарной дефиниции данное именное выражение означает: 1. Сухие отпавшие ветви деревьев, высохшие тонкие сучья или стволы: ср. топить хворостом. 2. Рассыпчатое печенье из тонких полосок теста, изогнувшихся во время кипячения в масле (Ожегов С.И. Словарь русского яыка. Электр. текстовые дан. Режим доступа: .
Вне контекста приведенное языковое выражение действительно многозначно, но многозначность такого рода – не более чем допущение без какой-либо связи с реальным употреблением, ибо, за исключением случаев сознательно обыгрываемой многозначности, невозможно представить такую ситуацию, в которой говорящим приходилось бы выбирать между хворост1 «сухие отпавшие ветви деревьев» и хворост2 «рассыпчатое печенье из тонких полосок теста». Однако можно без труда вообразить типовую коммуникативную ситуацию, в которой актуализация одного значения (семемы) ставится в зависимость от актуализации другого значения (семемы). Убедительным тому свидетельством служит, например, такое разбираемое Ю.Д. Апресяном высказывание: Хороший кондитер не жарит хворост на газовой плите [2, с. 14– 15]. Каждая из представленных здесь лексических единиц имеет в языке несколько значений: кондитер может означать (i) «тот, кто изготовляет сласти», (ii) «торговец сластями», (iii) «владелец кондитерской»; жарить – (i) «изготовлять пищу нагреванием на масле или в масле», (ii) «обдавать зноем»; хворост – (i) «сухие отпавшие ветви», (ii) «печенье, изготовленное кипячением в масле» 4. Поскольку допустимым признается только семантически связное построение, из потенциально возможных значений в толковании отбираются такие значения, в которых фигурирует общий для всех употребленных в высказывании слов компонент значения ‘изготовлять’: кон- дитер1, жарить1, хворост2. По определению Ю.Д. Апресяна, «это и есть основной семантический закон, регулирующий правильное понимание текстов слушающим: выбирается такое осмысление данного предложения, при котором повторяемость семантических элементов достигает максимума. Этот закон представляет собой строгую формулировку старого принципа, в силу которого нужное значение многозначного слова “ясно из контекста”» [2, с. 14].
Наряду с законом семантической связности такое, на первый взгляд, тривиальное установление позволяет осознать, что постулируемая в лексикографии полисемия зиждется, по сути, на атомистической трактовке знака вне какой-либо связи с другими знаками. Но если, руководствуясь соссюровской теорией значимости, определять языковой знак относительно других знаков, необходимым и достаточным условием установления значения будет тогда контекст, а в пределе – интертекст в виде совокупности контекстов, заданных на каком-то определенном корпусе текстов 5.
Убедительным тому примером может служить минута. Статистические данные, полученные на материале Национального корпуса русского языка, позволяют установить, что в русскоязычных романах, повестях и рассказах, образующих подкорпус литературного дискурса общим объемом 2559 документов, минута употребляется 30695 раз; наиболее частотными сочетаниями являются при этом несколько минут (5348), пять минут (2346), десять минут (1533), минута (1348), двадцать минут (635), две минуты (549), три минуты (433), менее частотными – семь минут (103), четыре минуты (91), восемь минут (69), шесть минут (47), девять минут (10). При этом, в отличие от малочастотных случаев употребления, в которых обозначения минут сочетаются обычно с обозначениями часов в выражениях типа четырнадцать минут пятого или Прошло два часа тринадцать минут, употребления типа Неужели самая любовь живит два верных сердца на несколько минут? Как жестока бывает эта минута! (Неизвестный. Варенька), Ни одной минуты не стала бы терпеть! (И. Муравьева. Мещанин во дворянстве) сви- детельствуют в пользу нетерминологического восприятия времени в русской языковой картине мира. В отличие от специально-научного определения минута означает в таких случаях не меру времени, равную 1/60 часа и состоящую из 60 секунд, а «короткий промежуток времени, мгновение» (Ожегов С.И. Словарь русского яыка. Электр. текстовые дан. Режим доступа: . В научном дискурсе ни о таком понимании, ни тем более закономерности употребления не может быть и речи.
Лексическое значение и социальные нормы. Обращение к засвидетельствованным в корпусе словоупотреблениям позволяет осознать, что наряду с системой языка определяющими факторами значения являются и некоторые другие систематики 6. В приложении к языку как «факту культуры» (Э. Косериу) это общепринятые представления типа doxa 7, так или иначе инкорпорированные в языковых произведениях в виде сопутствующих нормативных систематик, моделирующих в соответствии с заданной установкой мнения смысл привлекаемых для разбора языковых выражений [3, с. 167–172]. Достоверны или нет такие представления в смысле объективном, заранее знать нельзя; хотя можно утверждать безусловную их достоверность как данного коллективного сознания 8.
В качестве иллюстрации рассмотрим достоинство, репрезентирующее соответствующий концепт. В словарной дефиниции выделяются, в частности, такие системные значения: 1. Положительное качество. Достоинство книги. В спектакле много достоинств. 2. Совокупность высоких моральных качеств, а также уважение этих качеств в самом себе. Ронять свое достоинство. Говорить с достоинством. Действовать с чувством собственного достоинства. 3. Стоимость, ценность денежного знака. Кредитный билет достоинством в 25 рублей. 4. Титул (в 1 значении; устар.). Графское достоинство. ◊ Оценить по достоинству кого-то или что-то – составить о ком-то или о чем-то правильное (положительное или отрицательное) мнение (Ожегов С.И. Словарь русского яыка. Электр. текстовые дан. Режим доступа: .
Разумеется, ни одна словарная статья не в состоянии отразить все оттенки значения. Установить их можно только в засвидетельствованных в речевом обиходе контекстах употребления. Обратившись к различным употреблениям слова достоинство в значении 2, нельзя не заметить, сколь разнообразны и исторически подвижны вкладываемые в него смыслы. Национальный корпус русского языка, позволяет установить, что в условиях переменной прагматической ситуации под заявленные в словарной статье «высокие моральные качества» подводятся в соответствии со сложившимися в культуре сценарными амплуа и верность долгу, и материальное благополучие, и заслуги перед Отечеством, и безупречная репутация, и веселый нрав, и забота о домашнем уюте, и даже, как ни странно, умение изъясняться на иностранных языках.
Достоинство мужчины определяется по верности долгу: Да, они неуклюжи, но очень верны – в этом их достоинство, а нынче верный человек большая редкость (Н.С. Лесков. На ножах); верности слову: Третье его достоинство – верность своему слову. Но все эти достоинства, к сожалению, были облачены в такую кору, что немногие могли узнать их настолько, чтобы как следует оценить (Л. Гумилевский. Зинин); уму и учености: Он человек ученый, и это достоинство может заставить забыть неприятный голос его (А. Погорельский. Двойник или мои вечера в Малороссии); Леонид Савельевич совершенно прав, когда говорит, что ум человека – это его достоинство (Д.И. Хармс. Опубликованное); заслугам перед Отечеством: Достоинство дворян не рождается от природы, но приобретается заслугами своему отечеству (В.Я. Шишков. Емельян Пугачев); немногословности: Надо, однако ж, присовокупить, что он имел достоинство молчать обо всем, что делалось в глазах его и о чем не приказано ему было говорить, хотя б то было о прыщике, севшем на носу его светлости (И.И. Лажечников. Ледяной дом); здравому смыслу и такту: Но главное его достоинство в глазах лидеров палаты состояло в наличии у него большого здравого смысла и светского такта, делавших его безопасным оратором (Е. Ахматова. Ке-нелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь); осанке и поступи: В его приемах, в осанистой поступи было что-то львиное, какая-то особенно спокойная важность, достоинство, неторопливость и уверенность в самом себе (А.К. Толстой. Князь Серебряный); талантам, умениям и способностям: он обладал всеми маленькими талантами, которые в глазах женщин имеют большое достоинство. Он умел срисовать пейзаж для альбома, пропеть романс или даже какую-нибудь итальянскую арию, довольно удачно набросать карикатуру, но все эти таланты он обнаруживал только для немногих избранных (И.И. Панаев. Опыт о хлыщах); Умение вовремя хорошо спеть, сыграть на гитаре, да, пожалуй, и поплясать – это большое достоинство (И.Н. Потапенко. Не герой); дворянскому происхождению: Будто дворянс-кое-то имя и первое на свете достоинство! (А.П. Сумароков. Вздорщица).
Достоинство потенциального зятя и мужа определяется по достатку и материальному благополучию: На что ей это таить; богатство у человека первое достоинство (А.П. Сумароков. Приданое обманом); Богатство составляло все достоинство, которого желали они будущему своему зятю, и, спрашивая о числе душ жениха своей дочери, никогда не заботились знать, имеет ли он в себе душу (П.И. Шаликов. Темная роща, или памятник нежности); Советник: Знаю, все знаю; однако твой жених имеет хорошее достоинство . Софья: Какое, батюшка? Советник: Деревеньки у него изрядные (Д.И. Фонвизин. Бригадир); благородному происхождению и связям: При всем моем самолюбии, я не осмеливался свататься в знатных домах, где порода и связи составляют главное достоинство жениха (Ф.В. Булгарин. Иван Иванович Выжигин).
Достоинство незамужней женщины определяется по привлекательной внешности: Он видел прямую возможность приволокнуться за очень милою дамой, в которой заметил важное, по его понятиям, женское достоинство – эластичность тела (А.Ф. Писемский. Боярщина); умению со вкусом одеваться: Со вкусом одеться, хорошо войти, приятно взглянуть есть важное достоинство для женщины, которая живет в гостях, а дома только спит или сидит за туалетом (Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника); безукоризненной репутации: Главное достоинство Наташи как члена ассоциации заключалось в том, что, будучи женщиной все-таки недурно и независимо поставленной в свете, она доселе пользовалась безукоризненной репутацией (В.В. Крестовский. Петербургские трущобы); чутью: Ладно, не будем недоумками и признаем: да, женщина кое-что видит, многое знает и еще больше чувствует. Это чертово чутье у женщины не отнять. Хотя, конечно, надо бы. Впрочем, это женское достоинство порой оборачивается недостатком, играющим с самой женщиной злую шутку (А. Инин. Женщина и ревность); умению слушать и понимать: Она слушает и понимает – редкое достоинство в наших женщинах (А.С. Пушкин. Роман в письмах); Ведь это было ее главное достоинство – все понимать (Ю. Трифонов. Дом на набережной); способности прощать: Да, Марья Алексевна, с вами еще можно иметь дело, потому что вы не хотите зла для зла в убыток себе самой – это очень редкое, очень великое достоинство, Марья Алексевна! (Н.Г. Чернышевский. Что делать?); умению разбираться в людях: Главное, неоцененное достоинство Ларисы Дмитриевны – то, господа... то, господа... <...> То, господа, что она умеет ценить и выбирать людей. Да-с, Лариса Дмитриевна знает, что не все то золото, что блестит. Она умеет отличать золото от мишуры (А.Н. Островский. Бесприданница); умению изъясняться на иностранных языках: Надежда: Антоновна хорошо говорит по-французски. Кучумов: Да. Невелико же достоинство (А.Н. Островский. Бешеные деньги) и даже твердости характера: Что она с характером, это очень хорошо; в женщине характер – большое достоинство (А.Н. Островский. Бешеные деньги).
Достоинство девицы составляют привлекательная внешность, легкий характер и веселый нрав: Высокая ростом, с открытой физиономией, она была то, что называют belle femme, имея при том какой-то тихий, мелодический голос и манеры довольно хорошие, хотя несколько и жеманные; но главное ее достоинство состояло в замечательной легкости характера и в неподдельной, природной веселости (А.Ф. Писемский. Боярщина); намного реже – мудрость: Катя была лишена стольких радостей в жизни, что ее способность быть счастливой и радоваться тому немногому, что есть, вовсе не эгоизм, а... мужество. И мудрость. «Это – достоинство, понимаете?» – говорил он, глядя ей в глаза, и добавил, что благодаря этому качеству она наверняка никогда не была для окружающих обузой, не портила их жизнь тем, что постоянно несчастна. Это – редкий дар (Нина Катерли. Дневник сломанной куклы); стремление к саморазвитию: Не так давно кузина ставила себе в достоинство интерес к умным вещам, с передовым оттенком, ездила на публичные лекции, даже в Соляной Городок, где уже совсем не бывает светских людей (П.Д. Боборыкин. Поумнел).
Достоинство жены определяется по супружеской верности: она сознавала свое достоинство и считала себя безгрешною, и муж едва ли не признавал ее святою – так была безукоризненна ее репутация (Н.Г. Помяловский. Молотов); привязанности к мужу: – Она так любит меня... – Это, конечно, важное достоинство, да не одно это нужно в супружестве (И.А. Гончаров. Обыкновенная история); приятности в обхождении: Вы увидите: ум – в сохранении в доме порядка, тишины, хозяйства; достоинство – в непорочности нрава, в приятности обхождения, в нежности всех поступков и чувствительности, – словом, в любезной уверенности о чистоте совести своей (В.Т. Нарежный. Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова).
Достоинство ребенка характеризуется послушанием и покорностью: Послушание и покорность есть самое главное достоинство каждого ребенка (Л.А. Чарская. Приключения Таси).
Достоинство работника определяется по самоотверженному честному труду: Достоинство этого пахаря заключается в том, что он добывает хлеб своими труда- ми, чужого не ест, чужим трудом не пользуется, следовательно, совесть у него покойна, а в этом-то «самая суть» и есть. (Г.И. Успенский. Из цикла «Мельком»); В этом порядке, основанном на труде, в котором «нет греха», он обретает и свое достоинство, и свое спокойствие духа, и свои права гнева, милости, доброты (Г.И. Успенский. Из цикла «Очерки переходного времени»).
Достоинство подчиненного выявляется по повиновению, умению слушать и выполнять приказы: Помни, старина, что главное твое достоинство – это слушать и выполнять приказы (С. Жемайтис. Большая лагуна) и т. д.
В качестве переменной величины содержание концепта «достоинство» раскрывается, таким образом, в согласии с определенными нормами-формулировками 9, так или иначе отраженными в сложившемся в социуме распределении ролей. Для мужчины это ум, верность слову и делу, значительные поступки; для незамужней женщины – приятность обхождения, умение со вкусом одеваться; для девицы – скромность, легкий характер и веселый нрав; для жены – супружеская верность, непорочность, забота о домашнем уюте; для подчиненного – повиновение, умение слушать и выполнять приказы. Таким образом социальные нормы «подправляют» закрепленное в языке значение в отношении каждого конкретного случая употребления. Поэтому заключим: вместо того чтобы отмежевываться от сопутствующих фоновых знаний на том основании, что за ними тянется шлейф житейских представлений, семантике надлежит скорее изучать их в качестве дополнительных систем кодирования, так или иначе участвующих в семиозисе 10.
В результате, можно сформулировать следующие принципиальные установления.
– Обращение к корпусу текстов позволяет определить, что в условиях переменной прагматической ситуации смысл анализируемого языкового выражения может быть только переменным.
– Наряду с системой языка определяющими факторами здесь оказываются и разного рода социальные нормы в функции дополнительных систем кодирования.
– Каждой нормативной системе соответствует своя собственная система ценностных смыслов.
– В структурном отношении содержание нормативной системы можно выразить в виде конъюнкции всех входящих в нее норм-формулировок вида быть немногословным, верным слову , долгу, делу – для мужчин, быть приятной в обхождении, нежной и чувствительной – для незамужних женщин, иметь безукоризненную репутацию , заботиться о домашнем уюте – для жены и т. д.
– По критерию истинности нормативная система не подлежит проверке на истинность, поскольку все входящие в нее нормы-формулировки не являются ни истинными, ни ложными, а разве только выполнимыми или невыполнимыми, разрешающими или запрещающими, противоречивыми или непротиворечивыми.
– По критерию обязательности все входящие в нормативную систему нормы-формулировки сродни императивам со статусом разрешений или запретов.
– По критерию выполнимости нормативную систему считают выполнимой, если все входящие в нее нормы-формулировки непротиворечивы.
Список литературы Лексическое значение в фокусе корпуса текстов
- Апресян, Ю. Д. Значение и употребление/Ю. Д. Апресян//Вопросы языкознания. -2001. -№ 4. -С. 3-22.
- Апресян, Ю. Д. Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. -М.: Языки русской культуры, 1995. -472 с.
- Бочкарев, А. Е. Семантика. Основной лексикон/А. Е. Бочкарев. -Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2014. -320 с.
- Вригт, Г. Х. фон. Нормы, истина и логика/Г. Х. фон Вригт//Вригт, Г. Х. фон. Логико-философские исследования: Избранные труды. -М.: Прогресс, 1986. -С. 290-410.
- Растье, Ф. Интерпретирующая семантика/Ф. Растье. -Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2001. -368 с.
- Martin, R. Pour une logique du sens/R. Martin. -Paris: P.U.F., 1983. -265 p.
- Rastier, F. La mesure et le grain. Sémantique de corpus/F. Rastier. -Paris: Champion, 2011. -280 p.
- Национальный корпус русского языка. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://ruscorpora.ru/. -Загл. с экрана.