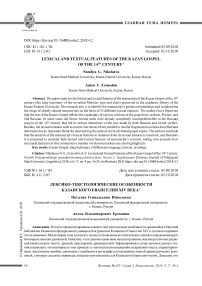Лексико-текстологические особенности казанского евангелия xiv века
Автор: Николаева Наталия Геннадьевна, Ермошин Антон Владимирович
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 4 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализированы лексико-текстологические особенности хранящейся в Научной библиотеке Казанского федерального университета рукописи Казанского Евангелия XIV в. (полного апракоса так называемого Мстиславова типа и класса) с целью установления ее генетических связей и определения круга близкородственных рукописей. Показано, что в данном памятнике нашла отражение лексика различных редакций евангельского текста: древней, преславской, древнерусской. Зафиксированы случаи неосмысленных чтений и выявлено, что некоторые из них приводят к значительным искажениям содержания текста; охарактеризованы лексические ошибки, связанные с ошибками в антиграфе или вызванные порчей древнегреческих рукописей, с которых делались переводы; описаны оригинальные для Казанского Евангелия чтения. Доказано, что кроме лексических маркеров существенным фактором для определения ближайшего круга родственных евангельских списков служат вставки в текст из параллельных или схожих фрагментов. Сделан вывод о некорректности проведения анализа лексических особенностей памятника изолированно от его текстологии; предложено рассматривать лексико-текстологические особенности рукописей, учитывая их структурные особенности, которые позволяют выделить ряд соответствующих им маркеров.
Казанское евангелие, полный апракос, древнерусский язык, лексика, текстология
Короткий адрес: https://sciup.org/149129925
IDR: 149129925 | УДК: 811.161.1’04 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2018.4.2
Текст научной статьи Лексико-текстологические особенности казанского евангелия xiv века
DOI:
Казанское Евангелие (далее – КЕ) – полный апракос конца XIV в., хранящийся в Научной библиотеке Казанского федерального университета. Эта старейшая рукопись древлехранилищ Казани до сих пор не была системно описана и введена в современный научный оборот. К сожалению, она отсутствует в списке рукописных евангелий, представленном в фундаментальном труде М. Гардзанити [Garzaniti, 2001, S. 509–584]; не упоминается в издании, подготовленном исследовательской группой под руководством А.А. Алексеева (Евангелие от Иоанна, с. 55–82), хотя в свое время краткое ее описание оставили А.С. Архангельский [1883] и П.Д. Шестаков [1880], вслед за которыми этот текст включил в свое исследование Г.А. Воскресенский [Воскресенский, 1896, с. 48]. Подтверждая мнение последнего, Л.П. Жуковская атрибутировала КЕ как апракос Мстиславова типа и класса [Жуковская, 1968, с. 319]. Вновь в поле зрения историков языка текст попадает в связи с составлением каталога древних рукописей, хранящихся в казанских архивах [Николаев, 2003; 2005]. В настоящее время исследовательской группой проводится подготовка этого КЕ к научному изданию в сопровождении справочного и критического аппарата.
В данной статье обобщены результаты изучения лексических особенностей рукописи с целью выявления генетических связей и определения круга близкородственных рукописей, охарактеризованы методологические проблемы исследования евангельских списков, а также представлен подход, позволяющий преодолеть некоторые трудности изучения таких текстов в лексическом аспекте.
Проблемы методологии исследования
Определение лексических особенностей любого евангельского списка сопряжено с рядом трудностей, а выявление лексических особенностей полного апракоса всегда имеет дополнительную исследовательскую нагрузку.
Во-первых, специфика лексического состава последнего неизбежно связана с проблемой происхождения данного типа текста, которая до сих пор не имеет в науке однозначного решения. Если вопрос о том, какой тип евангельского текста был переведен Кириллом и Мефодием первым, убедительно решен в пользу краткого апракоса (обсуждается только его объем: от Пасхального Евангелия до краткого апракоса в его привычном составе), то о дальнейшем развитии этого типа текста нет окончательного заключения (см. [Garzaniti, 2001, S. 210–211, 227–228, 243]). Однако для обсуждения особенностей лексического состава полного апракоса важно понимать время возникновения рукописи – до тетра или позже, уже на основе краткого апракоса и Четвероевангелия. Кроме вопроса о происхождении в целом, для полных ап-ракосов Мстиславова типа актуальны вопросы о характере данной редакции: в какой степени и в каких ее частях она зависит от древних вариантов текста и от преславской версии, в чем состоят ее оригинальные особенности. Новая гипотеза в отношении генезиса этих рукописей выдвинута в работах С.Ю. Темчина, в частности в [Темчин, 1997], которая в силу объема исследуемого материала она еще не получила достаточного подтверждения.
Во-вторых, сложность выявления лексических особенностей евангельских текстов связана именно с объемом материала, который должен быть подвергнут анализу:
массив списков таких рукописей в книгохранилищах всего мира изучен пока вне какой-либо единой системы. Несмотря на большое количество частных методик, выдвинутых исследователями разных стран, не выработан общий подход к материалу. Кроме того, многие рукописи остаются неизвестными или недоступными. В связи с этим установление генеалогических связей между ними представляется весьма сложным. Первостепенной задачей можно считать выявление группы достаточно близких друг другу списков, тогда как установление антиграфа и более отдаленных генетических связей не всегда возможно в силу объективных причин.
В-третьих, все это обусловливает трудность в атрибуции лексических особенностей: не во всех случаях представляется возможным определить, что принадлежит копиисту, что пришло из антиграфа, а что обусловлено типом текста. Например, сложно однозначно сказать, на каком этапе существования рукописи появились те или иные ошибки, возникшие вследствие внутреннего или внешнего диктанта. Текстовые вставки, связанные с общим литургическим контекстом, могли появиться на самой ранней стадии бытования евангельского перевода. При этом, как мы увидим в дальнейшем, эти же ошибки и вставки могут быть определенными вехами, характеризующими круг близкородственных рукописей.
В-четвертых, лексические особенности апракоса следует рассматривать на фоне его структурных особенностей. Только комплексный анализ структуры и ее лексического наполнения даст наиболее объективное представление о происхождении рукописи и ее генетических связях. К сожалению, до сих пор в работах по данной тематике доминирует какой-либо один из подходов. Так, классификация, предложенная Л.П. Жуковской, базируется прежде всего на структурных сходствах и различиях апракосов; большинство же исследователей углубляются в описание собственно лексических черт.
В-пятых, проблема выявления лексических особенностей евангельских списков связана с тем, что изучение славянского текста должно быть подкреплено знанием ви- зантийской богослужебной традиции и пониманием того, что современные издания на греческом языке не могут быть основанием для сравнения и выводов относительно особенностей перевода. Мы согласны с М. Гар-дзанити, который отрицает релевантность изданий Нестле-Аланда или Textus Receptus для сопоставления славянских текстов с «оригиналом» [Garzaniti, 2001, S. 665]: количество вариантов греческих списков евангельского текста – необозримо, достоверно определить, на какой список ориентировался переводчик (или редактор), – трудно, и зачастую славянский материал подсказывает нам, что был греческий список, который не учтен самыми лучшими академическими изданиями Textus Receptus, но был положен в основу перевода (редакции) славянского текста. В дальнейшем при непосредственном анализе материала мы приводим греческие эквиваленты по изданию (Новый Завет), но используем их более как иллюстрацию, а не прочную доказательную базу.
Принимая во внимание все вышеизложенные трудности, мы видим нашу задачу в том, чтобы выявить в тексте КЕ своего рода лексические маркеры, которые позволили бы в дальнейшем определить круг близкородственных ему рукописей и его место в нем. К таковым можно отнести оригинальные чтения, связанные с сознательными и неосознанными правками текста, неосмысленными чтениями, вставками, передачей заимствованных слов, выбором эквивалента греческого слова (в пределах допустимого варьирования) и т. п. Маркеры определяются как на общем текстовом фоне рукописи, так и в сравнении с неким текстовым инвариантом, представленном в ряде рукописей того же типа. Для исследования мы привлекали прежде всего Мстиславово Евангелие как «типообразующий» текст, Врачанское Евангелие (XIII в.), которое Л.П. Жуковская считала близким КЕ (устное сообщение), несмотря на то, что Врачанский кодекс представляет собой краткий апракос, а также некоторые другие тексты того же типа (см. Источники).
Исчерпывающую классификацию возможных лексических разночтений, характеризующих древнерусские рукописи данного типа, приводит в своей работе С.Ю. Темчин [Тем- чин, 1998, с. 194]. Однако нам представляется не вполне убедительной мысль исследователя о том, что во внимание необходимо принимать лишь те правки текста, которые относятся к разряду «сознательных» [Тем-чин, 1998, с. 190–191]. Многие «бессознательные» повторы оригинальных чтений и просто лексические ошибки в рукописи также могут приблизить нас к уточнению ее генетических связей: поставить текст в ряд подобных с таким же чтением или, напротив, обозначить его своеобразие.
Результаты и обсуждение
-
1. Большинство неосмысленных чтений КЕ мы уже рассмотрели, руководствуясь классификацией Темчина mutatis mutandis, в другой работе [Николаева, 2017]. Воспроизведем здесь наиболее яркие примеры, которые можно отнести к лексическим маркерам.
-
(1) Мф. 8:32: лвьк о^стреми| са все стадо повред-ше| в море и истопошл в во|длуъ . (23г).
Употребление повредше вместо по врвгм (ср. Мст. 38г) может быть как зрительной, так и слуховой ошибкой.
-
(2) Мф. 22:16: и посы|лак>ть оптики сво^| съ дьякони (42а).
Вместо съ дь^кон^ должно быть съ иродил-и-ы (ср. Мст. 57г) - ошибка, идущая из антиграфа либо возникшая при копировании (возможно, при наличии порчи текста в антиграфе).
у^е|
вв в
-
(3) М. 4:36: и wn корлвли. (43г).
илроды и повулшл.|
шкоже
Вместо по^шл и употреблено пот^аша (ср. Мст. 59в).
Отнесем сюда и еще один пример, насыщенный ошибочными чтениями разного генезиса:
-
(4) М. 15:7: вв же млро|тит^и влрлвл съ сво|ими свт- тилиик^| сва^анъ . иже в перь|сидв оуво створишл (98в).
-
2. Среди оригинальных чтений выделяется одно, о происхождении которого мы не пришли к однозначному выводу. Это чтение пока не было обнаружено ни в одной другой из исследованных нами рукописей: вероятно, оно является характеристикой КЕ:
-
3. Ряд особенностей в чтениях связан со следованием традиции перевода, основанной на редакции греческого текста , не зафиксированной академическими изданиями.
-
(7) М. 1:33: и вв| весь ндродъ соврдв сд| на послушдник (39в);
Появление нлрочит^и вместо нлрицлкм^и (ср. Мст. 116а) может быть объяснено сме- шением чтения из Марка и Матфея: в соответствующем эпизоде Евангелия от Матфея Варавву характеризуют как сва^иа илротитл (133г). Слово св^тилиик-ы - это непонятое (?), невнимательно скопированное слово сввтьии-к-ы, то есть «сообщники» (ср. Мст. 116а). Следующая синтагма является искажением иже в првсвдв о^вои створише (по РНБ, Гильф. 1, л. 269), то есть «который совершил убийство во время мятежа». Искажение ее может быть связано с тем, что слово првсвдл было копиисту уже непонятным, а ^во вместо ^вои - вполне допустимая в его практике ошибка письма.
По-видимому, эти ошибки характеризуют лишь рукопись КЕ, но не принимать их во внимание при сравнении с текстами других апракосов нельзя, поскольку часть их могла прийти и из антиграфа.
(5) М. 1:12: авь- дуъ и^веде ис пу|ст^ии (38г).
Можно предположить, что ис в данном случае представляет собой транскрипцию греческого предлога E i c «в», что соответствует смыслу стиха (Дух вводит в пустыню). Ср. греч.: Ka l £ ^ 0 г юд т о Пуе г ца a v T o v E Ke ^ ZZei E i c r q v E pn^ov. В тексте КЕ есть и другой «греческий след», пришедший из древней традиции перевода: в перечислении имен апостолов (Мф. 10:3) второе имя Фаддея – Леввей – передается как келевеи: ке в данном случае -это греческий союз καί «и», воспринятый как часть имени: и ^ковъ ллъфв-|въ. келевеи про-^вли-ыф флдви (16б). То же чтение мы обнаруживаем и в ряде других рукописей (Мар.; ГИМ, Синод. 65; РГБ, ф. 304.I, 5). Предлог ис мог появиться и вследствие ошибки при восприятии текста на слух - ср. в Мст.: и авь-д^ъ й^веде и въ п^ст^им (54в). Однако его появление, возможно, обусловливает приставка. В подтверждение этому приведем похожий фрагмент из КЕ, где предлог также без необходимости дублирует приставку управляющего глагола. Аналогов этому в других рукописях мы не обнаружили:
(6)Мф. 5:5: ^ко | тв ндслвддть мл ^е|млго (12б-в).
Если верно последнее предположение, то такая лексико-грамматическая особенность является характерной для создателя текста КЕ.
то же, по свидетельству Г.А. Воскресенского, в ГИМ, Синод. 65 [Воскресенский, 1896, с. 244] – ср. более распространенное чтение в Мст.: и вв вьсь грддъ съвьрдлъ сд къ двьрьмъ (55б), то же в РНБ, Гильф. 1 (130); Добр. (86); РГБ, ф. 304.I, 5 (55б); греч. ка ! Гу q n o Zig о ^п E niauvnY^ E vn np o g тгу 6 v pav.
-
(8) Л. 24:43: и прии|мъ пред ними |ддъ| протек длсть имъ (6г);
то же во многих рукописях (Арх.; Асс.; Врач.; Добр.; РГБ, Рум. 110), хотя последняя синтагма не обнаруживается в Мст.: и приимъ првдъ ними всть (21г), ОЕ; РГБ, ф. 304.I, 5 и др., ее эквивалента нет и в академических изданиях греческого текста, однако она присутствует в Вульгате (et cum manducasset coram eis sumens reliquias dedit eis), что косвенно указывает на существующую греческую редакцию текста, в котором эквивалент ее наличествует.
-
(9) Ин. 9:41: н^не же глте ш<о в||димъ грвуъ влшь| пред вами ксть (2в),
в большинстве же рукописей на месте пред вдми рсть — првв^вдготь (ср. Арх. 5 об.; Врач. 28; Добр. 27б; Мст. 17в; ОЕ 35 об. и др.; греч. ^ E VEi), но КЕ не изолированная в этом отношении рукопись, похожую редакцию мы встречаем в РГБ, ф. 304.I, 5, 17 об.: предо много гость , что говорит о существовании другого варианта перевода (или перевода иной греческой редакции).
-
(10) Ин. 8:12: уодди по мнв| не имдть уодити| во тмв но имдть жТ|вотл ввтндго в ввки (11в).
4. Вставки
– еще один лексический маркер, важный для определения оригинальности рукописи. Они могли появляться в тексте в силу разных причин, определить которые достоверно можно не всегда.
Этот фрагмент явно имеет две традиции перевода, связанные, по всей видимости, с разночтениями в греческом: одна представлена в КЕ, а также в Арх., Врач., РГБ, ф. 304.I, 5; другая - сввтъ животьн^и - представлена в Мст. (26г) и восходит к ОЕ. Нужно отметить, что рукопись КЕ содержит также вставку в ввки , не обнаруженную нами на настоящий момент в других апракосах.
Так, в следующем отрывке выделенный фрагмент является вставкой, которая повторяется также в РГБ, ф. 304.I, 5, л. 65б:
-
(11) М. 6:54: ишедшго 1су| ис кордвлд. и двьк| по^ндшд и мужи| м^етл того . и пре|текошд все wкрyгъне|к мвсто то (49а).
Интересно, что в Мст. в этом месте тоже вставка, но несколько иного наполнения, и повторяется она, например, еще в РНБ, Гильф. 1, л. 151 об.: по^ндшд и мужи ^емлд генисдретьс-к-ы (64б).
Некоторые вставки еще менее распространены. Так, в
-
(12) М. 1:13 вв во съ ^в^рми пре|в^вдкть. днгли слу|ждууть -му (38г)
слово прев^вдготь является вставкой, которая обнаруживается еще только в одной рукописи – РГБ, Рум. 110. В случаях, подобных (11) и (12), последние возникали, по-видимому, вследствие путаницы или порчи текста, не исключено, что еще на уровне греческого подстрочника.
Не может не привлечь внимания исследователя КЕ вставка между Мф. 27:49 и 27:50, сделанная в седьмом «страстном евангелии» Великого четверга (причем в повторе этого текста в чтении на литургии Великой пятницы данной вставки в рукописи КЕ нет):
-
(13) дру|г^и же приимъ ко|пьк проводе Рму ре|в-рл. и и^иде кровь и| вода (135г).
Источник этой фразы понятен – стих Ин. 19:34, повествующий об «одном из воинов», пронзившем ребра уже умершего на кресте Иисуса перед снятием распятых для погребения. Уди- вительно другое: как это повествование попа- ло в рассказ о еще не умершем Иисусе, будучи вставленным перед словами 1съ же пдк-ы еъ|спиеъ глыб Еелнк^|мь Испусти д^ъ (135г), «приросло» к рассказу о воине, который, вон- зив губку на трость, пытался напоить Христа уксусом (Ин. 27:48) – именно по отношению к нему воин с копьем обозначен как дру|г-ыИ. В результате было значительно искажено евангельское повествование о крестной смерти Христа: согласно данной «версии» она наступила вследствие прободения копьем ребер еще живого Иисуса. Данная интерполяция имеет место в Мст., но, в отличие от КЕ, не в чтении Великого четверга (154г), а на литургии Великой пятницы: дроуг^н же приимъ ко|пнк проводе шоу реврд и ||^иде Еодд и кръЕь (162а). Во Врач. это «апокрифическое уточнение» встречается в обоих чтениях: Инб же прие|ыъ копие. И проводе ем8 реврд.| И^иде кръЕЪ И еод© (л. 156 - 156 об.; то же на литургии пятницы – л. 131). В обоих случаях воспроизводит его и Арх. (109 об., 119 об.), причем текстуально весьма близко к КЕ. Оба раза данная интерполяция встречается в чтениях Великого четверга и Великой пятницы в ОЕ; в Асс. она есть на литургии Великой пятницы (110а) (в Великий четверг седьмое «страст- ное евангелие» здесь не приведено, а имеется отсылка к литургии пятницы). В этом случае искажение текста произошло еще на уровне греческого «оригинала».
Вставки из других евангелистов в параллельных или кажущихся сходными фрагментах текста достаточно распространены в КЕ.
В следующем примере интерполяция происходит не из параллельного чтения, а из схожей синтаксической конструкции, вероятно ошибочно воспринятой как близкий текст:
-
(14) Мф. 11:22: туру н| сндону лег^дн вуде|ть еъ двь судв^ын. веже грдду н едыъ (20в).
5.
Охарактеризуем далее
единичные
маркеры, которые либо редко употребляются в незначительном количестве рукописей, либо обнаружены к настоящему моменту только в КЕ.
Непонятное в данном контексте грдду пришло, по-видимому, из Мф. 10:15: wрддв^И вудеть |^емли содомьст^И| И гоморьст^ еъ двь судной веже грд|ду тому (16г); то же в М. 6:11, л. 49а.
Достаточно много вставок, происхождение которых можно объяснить влиянием «церковной фразеологии» (по Темчину) с включе- нием широкого богослужебного контекста. Кроме того, ряд вставок возникает под воздействием ближайшего контекста (ошибочное повторение слов). Все они подробно были рассмотрены нами в указанной статье [Николаева, 2017].
К редким вариантам можно отнести следующие:
-
(15) Ин. 21:19: се| же р ] е клепл- койи сме|ртьи прослдЕнть вд (10г);
в большинстве рукописей на месте клепл- стоит ^вдмевд^, вд^вдмеву^ - вариант клепл- (в разной графике) был обнаружен нами только в Мар. по изданию (Евангелие от Иоанна), а также в Арх. (21 об.) и в РГБ, ф. 304.I, 5 (24б);
-
(16) М. 1:15: н| покднте н Е^рунте еъ| скд^двнк еудльско (39а);
в большинстве рукописей, как в Мст. (54в), употреблено еъ еувгелн- (в разных вариантах написания); вариант КЕ встречается только в ГИМ, Синод. 65 [Воскресенский, 1896, с. 244].
Рукопись ГИМ, Синод. 65 объединяют с КЕ также следующие необычные чтения:
-
(17) Мф. 5:39: во дще кто оудд|рнть т- по лнци w|врдтн кму другой (13в),
обычно же, как, например, в Мст. 29в: е дес-вуи лдвнтеу ;
-
(18) Мф. 5:41: кто понметь т- по с||л^ поприще йднво| нтьтн ндн с внмь| дед (13в),
вставка нтьтн отмечается только в ГИМ, Синод. 65 [Горский, Невоструев, 1855, с. 259];
-
(19) Мф. 8:6: гн wтрокъ мон| волнть е дому wслд|влевъ ^л^ стрджд (21в),
в абсолютном большинстве рукописей употребляется глагол лежнть , и только во Врач. (л. 51) мы обнаруживаем то же чтение - волнть ;
-
(20) Л. 13:34: колькрлт^| късуот^уъ тада тко|^. шеоже курицл гн^|^до скор подъ крил^| свои. и не к'лсуо-т^сте (75а),
вместо обычного кокошь (например, в Мст. 88г) слово курнцл встречается в РГБ, ф. 304.I, 5 (89 об.), а также в Галицком и Юрьевском Евангелиях [Львов, 1966, с. 150].
Г.А. Воскресенский отмечает как понов-ление редакции оборот в М. 14:68 не е^д^ не се^д^ (Мст. 115б) - он повторяется в КЕ, лишь с поправкой на фонетические особенности последнего:
-
(21) ни кид^ ни скид^ тто глеши (98а).
Интересно, что такое построение составитель текста КЕ употребляет еще раз – в другом фрагменте, но тоже в речи апостола Петра:
-
(22) Ин. 21:17: т^ к^си и кс- ск^си ш<о люблю т- (10в);
в Мст. представляется более привычное: т-ы все е^сн. т^ е^сн ^ко люблю т- (25г); в РГБ, ф. 304.I, 5 встречается похожее на такое же, как в КЕ, построение этого фрагмента: т-ы все е^сн. т^ се^сн ^ко люблю т- (26б).
В нескольких случаях обнаруживаются необычные чтения, которые не повторились в доступных нам рукописях:
-
(23) Мф. 20:28: ш<о снъ| тлеть не придеть да| послужлтъ -му. но| да послужить и дл|ти крокь свою ^а и^Б|клению многими (33а),
на месте слова кровь обычно употребляется дшю - см. Мст. 47г и др. по изданию (Евангелие от Матфея, с. 109);
-
(24) Мф. 7:15: Блюдете с- w| лжиуь прркъ. иже| ПрИуоД-ть к КАМъ| ко WДеЖAуЪ WKTAybJ иже суть кол-ции т-|жьции (14г),
в Мст. еълцн ЕъсуытАю^ен (30в); в РГБ, ф. 304.I, 5 еолцнн ун^ннцн (30г); греч. Mkoi R ρπαγες. Последние два варианта перевода доминируют в рукописях, вариант т-жьцнн более пока не встретился. В продолжении текста выявлено еще одно необычное чтение, эквивалентов которому пока не обнаружено:
-
(25) Мф. 7:16: w колтець йго|ди (14г),
вариант ^годн нетипичный, обычно употребляется (в разном написании) смокк-ы .
Мы выделили 25 маркеров, которые представляют необычные чтения разного генезиса, формирующие в целом лексическое своеобразие памятника и позволяющие продолжить работу по его генеалогической атрибуции.
Выводы
Нами уже был сделан предварительный вывод о том, что КЕ принадлежит к небольшой группе списков, к которой в соответствии с их лексическими особенностями можно отнести списки ГИМ Синод. 65 и РНБ Погод. 17 [Николаева, 2017, с. 125–126], поскольку обе рукописи содержат полный апракос Мстиславова типа. Настоящее исследование, основанное на методах поиска и анализа лексических маркеров, еще раз подтвердило близость КЕ и ГИМ Синод. 65.
Однако эти рукописи не вполне идентичны по структуре. Наряду с общностью таких структурных маркеров, как (а) наличие чтений для понедельника – пятницы после 16-й недели (воскресенья) Матфеева цикла, (б) их совпадение с принятыми в современном русском православном богослужебном Евангелии, имеются и существенные отличия: (в) в рукописи ГИМ Синод. 65 счет недель по Пятидесятнице (Матфеев цикл) идет от понедельника к воскресенью, а не от субботы к пятнице (как в КЕ, Мст. и др.); (г) в рукописи ГИМ Синод. 65 имеется достаточно архаичное евангельское чтение на понлун в первую пятницу Великого поста; (д) чтения понедельника, вторника, среды и пятницы Страстной седмицы, обозначенные в КЕ как чтения «на литургии», в ГИМ Синод. 65 отнесены на кечеръ [Горский, Невоструев, 1855, с. 231; Ермошин, Кузьмин, 2017]. Даже если не принимать во внимание последний маркер (литургии всех дней Страстной седмицы совершаются в соединении с вечерней, поэтому обозначения «на литургии» и «на вечерне» в данном случае не принципиальны, равно как и ответ на вопрос о том, служились ли в период создания этих рукописей литургии в Великую пятницу или уже нет), прочие сходства и разли- чия, с одной стороны, не опровергают вероятных генетических связей обоих памятников, с другой – не позволяют считать, что они состоят в непосредственной связи антиграфа и копии.
Наблюдение над лексическим составом КЕ позволяет сформулировать несколько положений, на основе которых возможно дальнейшее изучение вопроса о лексических особенностях евангельских текстов:
– в памятнике соединяется лексика разных редакций евангельского текста – древней, преславской, древнерусской: некоторые традиционные слова уже незнакомы составителю – он не воспринимает их правильно на слух, делает ошибки;
-
– для определения более узкого круга родственных списков большой информативностью обладают вставки в текст;
– при описании лексики памятников типа КЕ необходим текстологический подход с привлечением как можно большего числа типологически родственных списков, поэтому говорить о лексических особенностях изолированно от текстологии не совсем корректно – мы предлагаем рассматривать эти особенности как лексико-текстологические.
Список литературы Лексико-текстологические особенности казанского евангелия xiv века
- Архангельский А. С., 1883. Древне-славянское Евангелие, принадлежащее Обществу археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете: (Материалы для истории русского языка). Воронеж: Типография В.И. Исаева. 28 с.
- Воскресенский Г. А., 1896. Характеристические черты четырех редакций славянского перевода Евангелия от Марка по 112 рукописям Евангелия XI-XVI вв. М.: Унив. тип. 305 с.
- Горский А. В., Невоструев К. И., 1855. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отдел первый: Священное Писание. М.: Синодальная типография. 357 с.
- Ермошин А. В., Кузьмин С. И., 2017. Структура Казанского Евангелия XIV века: к проблеме типологизации средневековых славянских апракосов // Культура и цивилизация. Т. 7, № 6А. С. 223-236.
- Жуковская Л. П., 1968. Типология рукописей древнерусского полного апракоса XI-XIV вв. в связи с лингвистическим изучением их // Памятники древнерусской письменности: Язык и текстология / под ред. В. В. Виноградова. М.: Наука. С. 196-332.
- Львов А. С., 1966. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М.: Наука. 321 с.
- Николаев Г. А., 2003. Казанское Евангелие-апракос XIV века // II Международные Бодуэновские чтения: Казанская лингвистическая школа: традиции и современность (Казань, 11-13 декабря 2003 г.): тр. и материалы: в 2 т. Казань: Казан. гос. ун-т. Т. 2. С. 94-96.
- Николаев Г. А., 2005. Рукописные книги XIV-XVII вв. в книгохранилищах Казани и их культурно-историческое значение // Ученые записки Казанского государственного университета. Серия Гуманитарные науки. Т. 147, кн. 2. С. 112-122.
- Николаева Н. Г., 2017. К вопросу о генетических текстовых связях Казанского Евангелия // Классические языки в постклассический период: сб. статей. Казань: Бриг. С. 124-135.
- Темчин С. Ю., 1997. Текстологическая история Баницкого Евангелия по данным внутренней реконструкции // Palaeobulgarica. Т. XXI, № 1. С. 48-62.
- Темчин С. Ю., 1998. Текстологическая семья Мстиславова Евангелия: новые данные о группировке древнерусских списков полного апракоса // Slavistica Vilnensis. Т. 47, № 2. P. 133-233.
- Шестаков П. Д., 1880. Заметка о старинном харатейном Евангелии конца XIV-го или нач. XV-го века, принесенном в дар Обществу Я.И. Расторгуевым // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. Казань: Тип. Каз. ун-та. Т. II. С. 121-127.