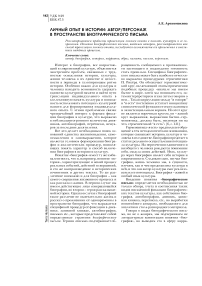Личный опыт в истории: автор/персонаж в пространстве биографического письма
Автор: Артамошкина Людмила Егоровна
Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana
Рубрика: Языки культуры
Статья в выпуске: 4 (29), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются проблемы трансляции личного опыта в память культуры и ее сохранения. Понятие биографического письма, вводимое автором, рассматривается как способ трансляции личного опыта, исследуются возможности его применения в аналитике подобных процессов.
Автор, биография, история, нарратив, образ, память, письмо, персонаж
Короткий адрес: https://sciup.org/14031632
IDR: 14031632 | УДК: 9.29
Текст научной статьи Личный опыт в истории: автор/персонаж в пространстве биографического письма
Введение понятия «биографическое письмо» определяется необходимостью не только обзора, учета и соотнесения таких видов письменной фиксации биографических текстов культуры, как собственно биография, автобиография, дневник, записная книжка, переписка, etc., но выработки понятийного аппарата, необходимого для аналитики столь разнородного материала.
Говоря о видах биографического письма, но не о жанрах, мы подчеркиваем не литературные коннотации понятия «биография», но выводим его в сферу нарра- тивных практик понимания/схватывания самого процесса проживания жизни.
Формы повествовательности выражают человеческий опыт и одновременно служат средством его осмысления и освоения, они вводят личный опыт, время отдельной человеческой жизни в опыт и время культуры. Вывод Рикёра («Время и рассказ») обосновывает использование концепта нарратива в исследованиях природы человеческого опыта и способов его трансляции в память культуры.
Рассматривая нарративность в «архитектуре исторического знания» [8, с. 334], Рикёр подчеркивает, что история как повествование связана с концепцией события: рассказ является развитием события и одновременно сам становится событием. Уже Вольтер критиковал понимание истории как совокупности событий/происшествий/фактов, т.к. оно мешает понять природу человека, причины его поступков. Понять рассказ – значит объяснить события, на этом убеждении основана практика нарратива. Здесь необходимо сделать уточнение по поводу употребления термина «нарратив». В переводах терминами «нарратив» и «рассказ» выражется одно и то же слово-понятие у Рикёра – r`ecit. «Нарратив» как термин пришел из авторизованного англоязычного перевода книги «Время и рассказ». Он закрепился в языке истории, лингвистики, литературоведения, психологии. Образовалась междисциплинарная область знания, посвященная повествованию – нарратология. Нарратив, согласно Рикёру, представляет собой свойство дискурса. Нарратив конституирует живой опыт в его временности, живой опыт становится, в свою очередь, условием временности повествования. Обращаясь к истории, в другой работе («Память, история, забвение») Рикёр связывает феноменологию «прожитого опыта» и нарративный опыт. В живой памяти «запись тоже осуществляется, но она записывается в душе, она наделена живыми соками» [8, с. 200]. Необходимое уточнение, важное и для понимания специфики биографического письма, Рикёр делает соотнесением понятия письма (`ecriture) и записи (inscription). Положение письма в культуре Рикёр связывает с моментом фиксации, выраженным грамматической формой: «Я там был» («был» – имеет несовершенную форму в структуре подобной фразы французского языка) – процессуальность сохраняется, что и обращает нас к герменевтике «я есть». Письмо фиксирует процесс переживания и приобретения жизненного опыта.
Таким образом, биографическое письмо можно понимать в двух значениях: графи- ческом, имеющем материальный носитель (бумага, пленка записи, экран монитора), и письмо в его процессуальной исполняемости, имеющее значение жизни, фиксируемой в это процессе. Процедура такого письма вырабатывает стратегию самовыражения автора, которая одновременно является и стратегией самоосуществле-ния, самореализации.
Практика биографического письма воплощает установку самого принципа философского мышления – рефлексию и мимесис. С наибольшей отчетливостью это может быть выражено в биографическом письме, совершаемом самим философом – в дневнике философа. Ближайшим и впечатляющим примером опыта подобного письма является дневник известного петербургского философа К.С. Пигрова [6] и его собственная аналитика подобного опыта.
Биография, рассматриваемая как слагающаяся история жизни, которая одновременно может быть и рассказываемой, предполагает сопряжение времени и письма, что определяет положение автора по отношению к собственному письму. Положение автора и является «точкой» – временем, которое совмещает в себе, обуславливает встречу биографии как проживаемой жизни и биографию как историю этой жизни, имеющую интенцию адресованности (себе же, другу как ближайшему Другому, потомкам, миру). Важным качеством биографического письма, определяющим его специфику, является темпоральность .
Достаточнодавнообозначилась традиция разные виды биографического письма (собственно автобиографию, дневник, воспоминания, переписку, исповедь etc.) объединять в понятии «автобиография». Но можно различать характер и степень автобиографичности в каждом из этих видов. В практике самого письма автор часто совмещает разные его виды (дневник одновременно становится исповедью, автобиография включает в себя дневниковые элементы, письма включаются в дневниковые записи и наоборот, страницы дневника становятся частью переписки), что делает подвижными отношения автора и его собственного письма. Характер отношений выражается избираемыми грамматическими формами лица, которые выражают статус повествователя: «я» авторского лица или «он/она» лица персонажа и принцип темпо-ральности самого письма.
Предметом дальнейшего анализа будут материалы личных архивов и «полевых исследований», что позволит нам проиллюстрировать теоретические посылки и сформулировать итоговые выводы.
Общество
Terra Humana
Начнем с выдержки из летописи петербургской семьи. Автор – В.А. Квятков-ский – начинает свое повествование характерным признанием: «Давнее, очень давнее – да, чуть ли не сорокалетней давности! – намерение: писать мемуары» [10]. Начало семейной летописи (так обозначается автором вид письма) – 12 марта 2003 г. Но эта дата, вынесенная как начало летописного повествования, вызывает сомнение, поскольку ей предшествует приведенное выше признание. Дальнейшее знакомство с текстом обнаруживает особенности самого процесса письма. Автор использует материалы семейного архива (фотографии, письма, официальные документы – метрики, выписки из домовой книги, свидетельства рождения), собственные записи дневникового характера, мемуарные отрывки разных лет, вводит записи дневникового характера. Письмо оказывается процессом неравномерным (это видно по датировке записей), во временных разрывах концентрируя жизнь, не вмещенную самой практикой письма, может быть, не поддающуюся связному изложению (утраты, болезнь, боль).
«2008, 15 июля
С чего начать?
С детских впечатлений Вовика?
С “исторических документов” и карточек? Боюсь углубиться в генеалогию Квятков-ских, как бы не застрять в ней надолго: тогда на всё остальное не хватит отпущенного мне времени...» [10].
В приведенном отрывке можно увидеть, как автор начинает вырабатывать стратегию письма. Название «Семейная летопись» предполагает обращение к истории семьи. Но автор не пишет генеалогии. И этот выбор первоначальной позиции связан с чувством времени собственной жизни. Потому последующее повествование оказывается исходящим из центра – это накапливающиеся жизненные впечатления и опыт главного персонажа – «Вовика». Он, безусловно, автобиографический персонаж. Почему автор выбирает 3-е лицо для своего повествования? Очевидно, что письмо приобретает отстраненность по отношению к пишущему. И на этом пути автора подстерегают трудности:
«2003, 22–28 марта, 8 апреля
Есть опасность, что мой рассказ перельётся в какие-нибудь “Записки старого петербуржца”, и я так и не доберусь до семейной летописи» [10].
По-прежнему важно удержать в фокусе семейную историю и историю персонажа в их ближайшей связи, впечатления «большого мира», его детали мешают этому. Но образ Вовика обретает плоть благодаря контексту, в котором детали приобретают существеннейшую роль не только придавая фактологическую точность всему повествованию, но, воплощая опыт переживания, мироощущения автобиографического персонажа, в буквальном смысле воскрешая саму «плоть» прошедшего в его запахах, звуках, картинах, что подтверждает теоретическую посылку о связности феноменологии восприятия и нарратива. Феноменология восприятия и нарративный опыт определяют принципы биографического письма.
«14 апреля. Помните андерсеновскую сказочку о горошинах? Впервые они увидели себя в стручке и – “Как мир тесен! ” – воскликнули горошины. – “Какой он зеленый!”. Такое примерно восприятие мира было и у Вовика в желябовской квартире. Тесный мир!» [10].
Однако дистанция между автором и его персонажем не сокращается. Эта дистанция сохраняется и поддерживается периодической рефлексией автора по поводу самого письма, его мотивов, целей, принципов. Конкретные приемы поддержания такой дистанции разные. Это могут быть, сокрушенно риторические вопросы автора самому себе о полезности или бесполезности воспоминаний, сомнения в достоверности человеческой памяти, сравнения с известными образцами подобного письма, обращения к возможному читателю. Последнее – обращение к читателю – особенно показательно для уточнения характера отношения автора и персонажа, автора к своему письму. Эти отношения определяются принципом, формирующим саму стратегию биографического письма – темпоральностью. Она письма одновременно является тем его качеством, которое обеспечивает своеобразный психотерапевтический эффект: процесс письма становится сопротивлением бегу времени, время «удерживается» в письме и на его границах. Лейтмотивом звучит признание автора: успеть, укрепить распадающуюся ткань прошлого, воплотить, т.е. помочь обрести плоть тем образам индивидуальной памяти, которые могут войти в хранилище памяти культуры. Процесс письма, собирая образ автобиографического персонажа, стано- вится одновременно удостоверением биографии автора письма в ее целостности и не случайности. Всё то же – «я здесь был». Готовые образы, входящие в ткань письма, подтверждают мысль А. Бур [9] о литературном образце, который предваряет написание автобиографии, задает своеобразную «матрицу» биографическому нарративу. Одновременно, и это нужно особенно отметить, образ является способом выражения переживания, инструментом самопонимания и самоанализа. Здесь важен характер соотношения переживания и образа. В. Дильтей, концептуализируя это отношение в плане построения оснований наук о духе, в связи с этим выделял автобиографию в качестве наиболее полного выражения того единства человека и жизни, которое в целостности своей служит основанием подобных наук. «Автобиография – это высшая и наиболее поучительная форма, в которой нам представлено понимание жизни... сама индивидуальная жизнь знает о взаимосвязи в себе самой» [3, c. 248].
Переживание, осуществляющее себя в потоке жизни, став объектом наблюдения, претворяется в воспоминание, становится образом и в качестве образа сохраняется культурной памятью, и благодаря же образу вызволяется из дальних ее запасников: «Изображенные на бумаге, эти виды петербургских дворов лучше всего поддавались черно-белой графике, открытой Добужинским. Да, именно «Добужинс-кий Петербург» (если сделать из фамилии прилагательное, по примеру Анны Андреевны: «Достоевский и бесноватый, город мой уходил в туман...»), да, вот такой добужинский и достоевский Петербург, его ускользающие в прошлое тени и абрисы пришлись на первые годы Вовика» [10]. Любопытно это наложение временных пластов: своеобразный палимпсест. Образы Петербурга Добужинского накладываются на образы памяти, хранящей переживания детства, и обнаруживают силу воскресить те, давние, детские ощу-щуния/переживания/впечатления. Образ является «инструментом» самопонимания и саморефлексии. Образ же, объективируясь, входит в предметно-понятийное пространство и, следовательно, становится возможным понимание, переход от «я» к «ты». Этот переход есть первичное условие самопонимания и саморефлексии, он определяет отстраненность взгляда на себя для автора любого вида биографического письма, когда «я» становится «ты» для себя самого.
«18 апреля. Поневоле начинаешь мелко философствовать: а было ли оно вообще вот это самое прошлое? Или есть только настоящее: вот, то, что сейчас» [10].
Эта дистанцированность автора от собственного текста выявляет общую черту биографического письма. Мы говорим о себе или записываем «свои труды и дни», удостоверяя себя в своем же собственном присутствии в мире – такова внутренняя интенция любого вида автобиографического повествования. В приведенном же тексте автор одновременно заявляет об обращенности письма к потомкам, выражает озабоченность, даже опасение, что «бутылка с посланием» не будет выхвачена из волн времени, многое предающего забвению. Повествование получает форму 3 лица, но и автобиографическое 1-е лицо тоже сохраняется. Как совмещаются, сосуществуют они в тексте? И зачем они нужны оба? Каждому из них принадлежит свой хронотоп: Вовику – прошлое, погруженное в голоса и запахи детства, автору – настоящее. Но запахи и звуки оживают в настоящем только в точке встречи «Вови-ка» и автора. «Вовик» – образ, созданный автором письма и обладающий силой воскрешать прошлое.
Здесь обнаруживается еще одна функция образа – функция самоконституиро-вания «я», образ становится средством «сборки» личности, в буквальном смысле способом обретения лица.
Процесс такой «сборки» и совершается благодаря специфической темпоральнос-ти письма . Зазор между настоящим временем письма и временем памяти (прошлое время, время перфективное) обуславливает появление «нарративного оператора», который осуществляет перенос (по типу метафорического переноса) автора в персонажа прошлого, свершившейся истории. Такой перенос является условием создания образа, теперь уже представляющего автора от 3-его лица.
Тенденция отстранения автора от собственного письма наблюдается в разного рода биографических текстах. Обращаясь к автобиографической повести А.К. Дорофеева [4], в интервью с автором я обнаружила интересную деталь.
Привожу запись интервью с Ярославом Вячеславовичем Соколовым (17 марта 2009 г.).
«Л.А.: Скажите, мне Андрей дал эту книгу – А.К. Дорофеев “Рассказы старого бухгалтера”. Это Вы или нет?
Общество
Я.С.: Я объясню: и да, и нет. Все это, так или иначе, связано со мной, но фамилия Дорофеев выбрана специально с той точки зрения, что есть эпизоды, где просто я участвую, а есть эпизоды, где участвуют мои коллеги, и их опыт я подставлял как будто свой, поэтому и появился Дорофеев. Во всяком случае, каждый эпизод может быть реально подтвержден...» [12].
В автобиографической книге персонаж «Дорофеев», предложенный автором, выполняет функцию, которую Рикёр обозначает как функцию «нарративного оператора». Персонаж своей отстраненностью от автора осуществляет переключение опыта переживаемого и проживаемого в процедуру письма, позволяя объективироваться в образы тому, что мгновение назад было нерефлексируемой и неотторгаемой собственностью автора.
Подводя итог, хотелось бы отметить следующее: человек в целостности проживаемой и рефлексируемой жизни, с его живым опытом определяет/вырабатывает своеобразную поэтику «слова о себе самом» – поэтику биографического письма. Как указывал В. Дильтей, «любой процесс, происходящий в душе, – это в одно и то же время процесс складывания образа; он обусловлен всей взаимосвязью душевной жизни...» [2, с. 311]. Этот вывод важен для подтверждения того единства жизнеповедения, самоосмыс-ления и самовыражения, которое является необходимым условием формирования биографии и ее последующего вхождения в память культуры в качестве образа, транслирующего подобное единство.
Список литературы Личный опыт в истории: автор/персонаж в пространстве биографического письма
- Беневенист Э. Общая лингвистика. -М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. -448 с.
- Дильтей В. Собр. соч. в 6 тт. Т.4. Герменевтика и литература/Под ред. А.В.Михайлова и Н.С. Плотникова; пер. с нем. под ред. В.В. Бибихина и Н.С. Плотникова. -М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. -531 с.
- Дильтей В. Собр. соч. Т.3. Построение исторического мира в науках о духе/Пер. с нем. под ред. В.А. Куренного. -М.: Три квадрата, 2004 -419 с.
- Дорофеев А.К. Рассказы старого бухгалтера. -М.: Магистр, 2007. -142 с.
- Пигров К.С. Шепот демона: опыт практической философии. -СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2007. -90 с.
- Рикёр П. Конфликт интерпретаций. -М.: Медиум, 1995. -411 с.
- Рикёр П. Время и рассказ. В 2-х тт. -М.: Университетская книга, 2000.
- Рикёр П. Память, история, забвение/Пер. с франц. -М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. -728 с.
- Burr A. The autobiography. A critical and comparative study. Boston, 1973. -439 p.
- Квятковский В.А. Семейная летопись (рукопись).
- Соколов Я.В. (1938-2010), интервью 17 марта 2009 г.