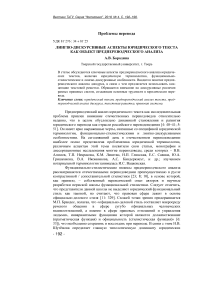Лингво-дискурсивные аспекты юридического текста как объект предпереводческого анализа
Автор: Бородина Анна Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы перевода
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются ключевые аспекты предпереводческого анализа юридических текстов, включая юридическую терминологию, функционально-стилистические и лингво-дискурсивные особенности. Вводится понятие предпереводческого анализа дискурса, в связи с чем предлагается использовать концепцию текстовой решетки. Обращается внимание на дискурсивные различия разных правовых систем, создающие основные трудности в юридическом переводе.
Юридический текст, предпереводческий анализ текста, предпереводческий анализ дискурса, текстовая решетка, правовая система
Короткий адрес: https://sciup.org/146281313
IDR: 146281313 | УДК: 81`276
Текст научной статьи Лингво-дискурсивные аспекты юридического текста как объект предпереводческого анализа
Предпереводческий анализ юридического текста как исследовательская проблема привлек внимание отечественных переводоведов относительно недавно, что в целом обусловлено динамикой становления и развития юридического перевода как отрасли российского переводоведения [4: 40-41; 5: 51]. Он имеет ярко выраженные черты, связанные со спецификой юридической терминологии, функционально-стилистическими и лингво-дискурсивными особенностями. На сегодняшний день в отечественном переводоведении наиболее полно представлена проблематика юридической терминологии, различным аспектам этой темы посвятили свои статьи, монографии и диссертационные исследования многие переводоведы, среди которых - В.В. Алимов, Т.П. Некрасова, К.М. Левитан, Н.П. Глинская, Е.С. Савина, Ю.А. Гришенкова, В.А. Иконникова, А.С. Киндеркнехт, и др.; изучением нотариальной терминологии занималась И.С. Вацковская.
Функционально-стилистические нюансы предпереводческого анализа рассматриваются отечественными переводоведами преимущественно в русле контрастивной / сопоставительной стилистики [23; 8; 10], в основе которой, как правило, - собственный переводческий опыт авторов и научные разработки пермской школы функциональной стилистики. Следует отметить, что представители данной школы не выделяют юридический функциональный стиль как таковой, но считают, что правовая сфера лежит в основе официально-делового стиля [11: 329]. Схожей точки зрения придерживается М.П. Брандес, полагая, что «официально-деловой стиль составляет макросреду речевого общения в сфере сугубо официальных человеческих взаимоотношений, а именно в сфере правовых отношений и управления людьми», инвариантными функциями которой являются долженствование (прагматическая функция) и официальность (стилистическая функция)» [6: 33]), что необходимо сохранить и воссоздать при переводе. В связи с этим Н.В. Шутёмова определяет главную типологическую доминанту юридических текстов («главное сущностное свойство текста-оригинала, подлежащее репрезентации при переводе» [24: 47–48]) как «официальность» [цит. раб.: 49] (в то же время автор данной статьи склонна считать официальность не столько сущностным свойством (юридического) текста, сколько его стилистической доминантой в логике М.П. Брандес). В свою очередь, предпереводческий анализ юридических текстов должен быть направлен на выявление функционально-стилистических особенностей официально-делового стиля текста ИЯ, подробно описанных в [11: 319-342; 6: 33-62], и выбор наиболее адекватных форм текстов ПЯ, «если переводу подлежат речевые произведения, характеризующиеся жесткой формальной структурой, особенно часто функционирующие в официально-деловой сфере» [8: 200]. Это можно сделать посредством «сравнительно-сопоставительного анализа процесса взаимной перекодировки стилевых традиций под воздействием сложившихся в каждой национальной традиции норм и стереотипов» [10: 193].
Наряду с этим в современном российском переводоведении прослеживается устойчивая тенденция рассматривать не столько (юридический) текст, сколько (юридический) дискурс как объект либо этап предпереводческого анализа: «в современных условиях межкультурного взаимодействия специалистов из различных областей различные виды институционального дискурса, в том числе юридический дискурс, становятся объектами теории специального перевода» [16: 139–140]. Указанная тенденция настолько сильна, что некоторые исследователи стали рассуждать о переводе не юридических текстов, а самого юридического дискурса per se [1]. Вероятно, столь глобальный замысел в рамках предпереводческого анализа конкретного юридического текста в целом ставит перед переводчиками непосильную задачу, но всё же нельзя не согласиться с тем, что «перевод юридических текстов, отражающих особенности соответствующего институционального дискурса, требует расширенного применения инструмента предпереводческого анализа» [16: 140]. Думается, что таким инструментом может стать предпереводческий анализ (юридического) дискурса, который предопределяет дальнейшую переводческую стратегию и норму перевода, инкорпорируя анализ юридической терминологии, функционально-стилистических и лингводискурсивных особенностей на основе сравнительно-сопоставительного анализа дискурсов ИЯ и ПЯ.
Изначально в целях сопоставлении дискурсов применялся лингвоконцептологический подход, разрабатываемый Волгоградской лингвокультурологической школой. Многие ученые вполне закономерно начинали исследования юридического дискурса со сравнительного изучения правовых концептов [19; 12], так как юридические термины несут основную когнитивную и концептуальную информацию для переводчика: «юридическая понятийно-терминологическая система отражает политико-правовую культуру общества, его идеологию, нравственные и религиозно-духовные ценности» [14: 31]. В рамках этого подхода предпереводческий анализ юридического текста неизбежно должен включать такой этап, как установление и соотношение объема понятий-концептов, передаваемых терминами-аналогами [цит. раб.: 39] - т.е., их полную либо частичную (без) эквивалентность. В то же время терминологическая и концептологическая (без) эквивалентность видится лишь верхушкой переводческого айсберга, будучи предопределена глубинными различиями правовых систем, которые остаются за пределами лингвистического исследовательского фокуса, на что неоднократно обращали внимание зарубежные переводоведы. Так, А. Нойберт полагал, что юридические тексты, в силу их специфической обусловленности прагматическими (историческими, политическими, экономическими, культурными, идеологическими) факторами, «собственно, нельзя перевести» [18: 198-200], и он во многом прав, так как «переводимость юридических текстов находится в прямой зависимости от степени родства правовых систем» [16: 144]). Аналогичной точки зрения придерживаются представители юридической компаративистики:
«… отсутствие совпадения между понятиями и даже между принятыми там и здесь правовыми категориями представляет собой одну из самых больших трудностей для юриста, желающего провести сравнение различных правовых систем. Он готов к тому, что встретится с различиями в содержании норм, но бывает дезориентирован, когда не находит в иностранном праве той классификации норм, которая ему представляется естественной и вытекающей из самой природы вещей… категории и понятия, которые элементарны для французского юриста, часто чужды для английского юриста, не говоря уже о юристе мусульманских стран… Вопросы, поставленные французским юристом африканцу в отношении организации семьи или земельных прав, африканцу непонятны, если они выражены терминами европейских институтов, совершенно чуждыми африканцам» [9: 17].
В этой логике, полностью либо частично (без) эквивалентными могут оказаться уже не столько сами юридические термины, сколько порождающие их правовые системы и соответствующие юридические дискурсы, что обусловлено культурно-историческими факторами. Чтобы хоть отчасти приблизиться к пониманию истоков этих различий в контексте (не) соизмеримости правовых систем, представляется уместным в целях предпереводческого анализа юридического дискурса, дополнительно к схеме В.И. Карасика (успешно себя зарекомендовавшей в исследованиях различных видов институционального дискурса) использовать концепцию «текстовой решетки» (textual grid) А. Лефевра и С. Басснетт. Эта концепция интерпретирована Н.Л. Галеевой в контексте переводческой дихотомии «культура 1 и культура 2» (ибо, вопреки мнению некоторых переводоведов о нулевой детерминированности содержания юридических текстов исходной культурой [22: 240], данные тексты могут быть детерминированы особенностями сразу нескольких культур, в том числе общей национальной и правовой культурами ИЯ и ПЯ): «каждая культура использует определенный состав текстов, являющихся для неё базовыми, определяющих систему ценностей, концептов, в целом задающих способы мышления культуры», при этом «французская, немецкая, английская культуры использовали одну и ту же текстовую решетку, которую они унаследовали от греко-римской античности» [7: 99]. Для правовых культур таким наследием стало, в первую очередь, римское право [14: 24]: так, «римское право Юстиниана снабдило западноевропейских юристов основной терминологией, греческая диалектика Платона и Аристотеля обеспечила их методом, а сочетание этих двух элементов в совершенно ином общественном контексте произвело на свет - 194 - нечто новое» [3: 151], иногда называемое правовым либерализмом («корни либерализма уходят в греко-римскую античность и к этой первозданной его основе принадлежат такие вполне четко выработанные понятия, как правовая личность и субъективное право (в первую очередь право на частную собственность)» [15: 2]). В связи с этим представляется, что для становления западноевропейских правовых культур / юридических дискурсов в качестве текстовой решетки уместно рассматривать тексты Священного Писания и его переводы на национальные языки [7: 21], а также корпус текстов римского права на латыни и в переводе [25: 3–4]: «для юристов начала XIX в. римское право было своего рода библией, все они так или иначе были на нем воспитаны» [13: 70]; более того, современные специалисты в области юридического перевода полагают, что латынь по-прежнему обладает «первостепенным значением в формировании терминологии и стилистики правового текста» [14: 24]. Однако, несмотря на то, что духовные ценности Библии и её переводов как центральных текстов западноевропейской лингвокультуры [7: 34] в основном сохранились во всех западноевропейских юридических дискурсах, развитие континентальной и англосаксонской правовых систем, начиная с XII в., следует по принципиально различным траекториям. Историки права склонны объяснять это судебными реформами Генриха II Плантагенета и последующим противостоянием канонического права католической церкви (власти Папы Римского) и королевской власти, приведшим к созданию англиканской церкви в ходе английской Реформации [3: 428-429]. В итоге рецепция римского права в Англии не состоялась, но усилилась королевская судебная юрисдикция, вводившая общие нормы и единые процедуры правосудия по всей стране (а также т.н. право справедливости лорда-канцлера на основе концепции «естественного права»). Тем самым текстовая решетка англосаксонской правовой системы наполнялась «национальными» текстами, подобными Magna Carta (1215) и Habeas Corpus Act (1679), а также так называемыми судебными прецедентами - текстами судебного дискурса, источниками которых чаще являлась устная речь, тогда как во Франции, Германии, Италии и многих других европейских государствах формировалась текстовая решетка на основе письменного римского права, по выражению И.Б. Новицкого, «пропитавшего своими соками всю систему гражданского права» этих стран [17: 10]. Представители немецкой исторической школы права, во многом развивая идеи В. фон Гумбольдта, полагали, что
«Истинная обработка римского права для нынешней юриспруденции должна соответствовать двоякому его значению: как праву отдельного народа, в котором оно реципировано, и как всеобщему праву цивилизованных народов; для этого нужно, чтобы мы служили не букве римского права, как не должны в поэзии списывать только стихотворения древних, - мы должны освободиться от буквы и проникнуться духом его» [20: 510].
В связи с этим в англоязычном юридическом дискурсе термин «англосаксонская (и впоследствии американская) система права» принято переводить как «система общего права (common law)» (создание законодательства, общего для всех подданных / граждан соответствующего государства под эгидой единого правителя), тогда как «континентальной (романо-германской) системе» соответствует «civil law», от латинского jus civile – права Римской империи, регулирующего частную (цивильную) сферу (более подробно см. [25]). Вариант перевода «гражданское право» для обозначения указанной правовой системы на данный момент не уместен, поскольку он омонимичен гражданскому праву как отрасли российского права; понятие «цивильное право» в русскоязычном юридическом дискурсе пока не прижилось, а «частное право» употребляется в значении регулирования правовой коммуникации между физическими и/ли юридическими лицами без непосредственного участия государства.
Как следствие, между романо-германской и англосаксонской правовыми системами исторически сложились существенные дискурсивные различия в духе соссюровской дихотомии «язык – речь», которые необходимо учитывать переводчикам: «французская система стала в значительной степени опираться на письменную процедуру, а английская – на устную»; в результате «… французское королевское право стало более систематизированным, более научным, более римским, более кодифицированным,.. охватывая более широкий круг правоотношений: гражданские обязательства, включая договоры, право собственности, право корпораций, уголовное право, публичное право, международное право» [3: 448–449].
Влияние римского права отразилось и на французском языке, что подтверждают этимологические исследования французского юридического дискурса [21]. Германия также «создала свое собственное национальное право, причем не столько из своих исторических правовых институтов, сколько из воспринятого ею “чуждого” римского права» [3: 29]. Американская правовая система в целом относится к системе общего права, но с важной оговоркой – она отчасти включает писаное право, тем самым противопоставляя себя праву Англии:
«… those who pledged their lives, fortunes and sacred honors to achieve independence and establish a new nation wanted to get things in writing. The British king and parliament had unwritten tradition as their guide» [26: 2].
В результате, в юридический дискурс США инкорпорированы не только судебные документы, основанные на устной речи (case law / judicial decisions), но и enacted law (законодательные акты): статуты, конституции и акты административного законодательства [27: 4].
Россия на сегодняшний день входит в романо-германскую правовую семью, в связи с чем юридический перевод с русского, скажем, на немецкий и французский языки представляет собой относительно более легкую задачу по сравнению с переводом на английский язык и «обратно». Тем самым сравнительно-правовой анализ особенностей юридического дискурса «в таких странах, как Россия и Франция, представляется эффективным прежде всего ввиду наличия континентальной системы права, представляющей собой общую основу правовых систем обоих государств, в рамках которой многие правовые институты и концепции базируются на одинаковых правовых традициях» [2: 9], обеспечивая максимальную эквивалентность перевода. В то же время указанные дискурсивные различия по-прежнему существенно - 196 - затрудняют юридический перевод с английского языка на языки стран континентальной правовой системы, включая русский язык:
«Не соответствуя ни одному из знакомых нам понятий, термины английского права непереводимы на другие языки, как термины флоры и фауны разных климатов. Когда любой ценой хотят перевести эти термины, их смысл, как правило, теряется» [9: 227].
Таким образом, несмотря на то, что в настоящее время теория перевода в языковой паре английский – русский в целом представляется в достаточной степени разработанной, юридическое переводоведение в указанной языковой паре пребывает лишь в начале своего пути. Сравнительное изучение юридических дискурсов ИЯ и ПЯ посредством предпереводческого анализа дискурса решает задачу выявления и сопоставления ключевых лингводискурсивных аспектов, во многом обусловленных текстовыми решетками соответствующих лингвоправовых культур.
Пермь: Изд-во Пермск. национальн. исслед. политехнич. ун-та, 2017. С. 37–47.
М.: Проспект; 2011. 352 с.
LINGUO-DISCURSIVE ASPECTS OF A LEGAL TEXT AS THE FOCUS OF PRETRANSLATION TEXT ANALYSIS
Anna Borodina
Список литературы Лингво-дискурсивные аспекты юридического текста как объект предпереводческого анализа
- Базуева А.Н. К вопросу о стратегиях письменного перевода англоязычного юридического дискурса//Профессиональное образование в России. 2016. № 10. С. 102-107.
- Батухтина Е.М. Исполнительная сила нотариального акта в праве России и Франции (сравнительно-правовое исследование). М.: Статут, 2016. 173 с.
- Берман Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М.: Изд-во Моск. ун-та: ИНФРА-М -НОРМА, 2008. 624 с.
- Бородина А.В. К вопросу о теоретико-методологических подходах к изучению юридического перевода//Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Проблемы языкознания и педагогики. № 2. Пермь: Изд-во Пермск. национальн. исслед. политехнич. ун-та, 2017. С. 37-47.
- Бородина А.В. Теоретико-методологические предпосылки изучения перформативности как свойства юридических текстов//Слово и текст: психолингвистический подход: сб. научн. тр. Тверь: Твер. гос. у-т, 2017. С. 51-57.
- Брандес М.П., Провоторов В.И. Предпереводческий анализ текста: учебное пособие по немецкому языку. М.: КДУ, 2014. 240 с.
- Галеева Н.Л. Перевод в лингвокультурологической парадигме исследования: монография. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2011. 172 с.
- Гарбовский Н.К. Теория перевода: учебник. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 544 с.
- Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности: пер. с фр. В.А. Туманова. М.: Междунар. отношения, 2003. 400 с.
- Иванова М.С. Научный стиль как объект предпереводческого анализа//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 4. С. 193-196.
- Кожина М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка: учебник. М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. 464 с.
- Колесникова Л.В. Юридический дисккурс как результат категоризации и концептуализации действительности: на материале предметно-терминологической области «Международное частное право»: дис. … канд. филол. наук. Ставрополь, 2007. 166 с.
- Крашенинников П.В. Серебряный век права. М.: Статут, 2017. 144 с.
- Левитан К.М. Юридический перевод: основы теории и практики: учеб. Пособие. М.: Проспект; 2011. 352 с.
- Леонтович В.В. История либерализма в России: 1762-1914/пер. с нем. И. Иловайской под общ. ред. А.И. Солженицына. М.: Русский путь, 1995. 550 с.
- Махортова Т.Ю. Переводчик в юридическом дискурсивном пространстве//Переводчик ХХI века -агент дискурса: колл. монография/науч. ред. В.А. Митягина, А.А. Гуреева. М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. С. 131-152.
- Новицкий И.Б. Римское право. М.: Зерцало-М, 2018. 246 с.
- Нойберт А. Прагматические аспекты перевода//Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике: сб. ст.. М.: Междунар. отношения, 1978. С. 185-202.
- Палашевская И.В. Концепт «закон» в английской и русской лингвокультурах: автореф. дисс. … канд. филол. наук. Волгоград, 2001. 32 с.
- Пухта Г.-Ф. Энциклопедия права/пер. с нем.//Немецкая историческая школа права. Челябинск: Социум, 2010. С. 423-510.
- Рекош К.Х. Искусства словесности в период Античности как предпосылки формирования западноевропейского правового дискурса: монография. М.: МГИМО-Университет, 2017. 190 с.
- Сдобников В.В. Перевод и коммуникативная ситуация: монография. М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. 464 с.
- Швейцер А.Д. Контрастивная стилистика: газетно-публицистический стиль в английском и русском языках/под ред. В.Н. Ярцевой. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 256 с.
- Шутёмова Н.В. Понятие доминанты в типологии перевода//Вестник Пермского университета. 2015. № 3(31). С. 46-51.
- Merryman J.H. The Civil Law Tradition: an Introduction to the Legal Systems of Western Europe and Latin America. 3d ed. Stanford University Press, 2005, 168 p.
- Sarazin R.A. The Constitution of the United States: Foreword. The U.S. Capitol Historical Society, Washington D.C., 2004. P. 1-4.
- Shapo H.S., Walter M.R., Fajans E. Writing and Analysis in the Law. Revised 4th ed. New York: New York Foundation Press, 2003. 582 p.