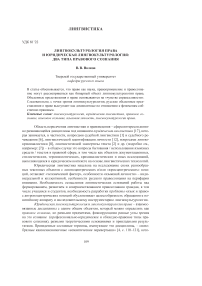Лингвокультурология права и юридическая лингвокультурология: два типа правового сознания
Автор: Волков Валерий Вячеславович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается, что право как наука, правоприменение и правосознание могут рассматриваться как бинарный объект лингвокультурологии права. Обыденные представления о праве основываются на «чувстве справедливости». Следовательно, с точки зрения лингвокультурологии, русские обыденные представления о праве выступают как доминантные по отношению к феноменам собственно правовым.
Лингвокультурология, юридическая лингвистика, правовое сознание, языковое сознание, языковая личность, лингвокультурология права
Короткий адрес: https://sciup.org/146121877
IDR: 146121877 | УДК: 81’22
Текст научной статьи Лингвокультурология права и юридическая лингвокультурология: два типа правового сознания
Область пересечения лингвистики и правоведения – сфера интересов активно развивающейся дисциплины под названием юридическая лингвистика [17], которая занимается, в частности, вопросами судебной лингвистики [1] и судебного ре-чеведения [6], лингвистической идентификации личности [12], вопросами лингво-криминалистики [8], лингвистической экспертизы текста [2] и др. (подробно см., например: [7]) – в общем случае это вопросы бытования / использования языковых средств / текстов в правовой сфере, в том числе как объектов документационных, стилистических, терминологических, криминалистических и иных исследований, выполняющихся в юридическом контексте на основе лингвистических технологий.
Юридическая лингвистика нацелена на исследование своих разнообразных текстовых объектов с лингвоцентрических и/или «юрисцентрических» позиций, оставляет «человеческий фактор», особенности «языковой личности» – индивидуальной и коллективной, особенности русского правосознания на периферии внимания. Необходимость осмысления лингвистических оснований работы над формированием, развитием и совершенствованием правосознания граждан, в том числе учащихся и студентов, необходимость разработки проблемы «язык и право» с антропоцентрических позиций обусловливает целесообразность обращения к понятийному аппарату и исследовательскому инструментарию лингвокультурологии.
Юридическая лингвокультурология и лингвокультурология права – взаимосвязанные дисциплины с одним общим объектом, который можно определить как правовое сознание, но разными предметами, фиксирующими разные углы зрения на это сознание (профессионально-юридическое и обиходно-правовое типы правового сознания), разными теоретическими основаниями и прикладными результатами. Приведенные составные термины, именующие эти дисциплины, – своеобразные квазисинонимичные «семантические перевертыши» [4, с. 110–121], кото- рые, как любые семантические синонимы, различаются ключевыми смысловыми компонентами. К примеру, одно дело, если Учитель учит ученика, другое – если Ученик учит учителя. В случае юридической лингвокультурологии в основе исследования – профессионально-юридическое знание (фиксируемое нормативными документами и терминологическими словарями), за которым следует его обиходная лингвокультурологическая проекция – набор достаточно размытых (в отличие от точного знания) семантических представлений (обыденных понятий, фиксируемых в толковых словарях) и, следовательно, процессы субъективно-личностной «дею-ридизации» юридического (юридическое осмысляется в логике обихода). В основе лингвокультурологии права, напротив, – достаточно диффузные, размытые, строго не определенные семантические представления «рядовых» носителей языка (не профессиональных юристов) о правовых отношениях, которые нередко отождествляются с устоявшимися правилами поведения, «формами обхождения» (этикетом), с этическими регуляторами человеческих взаимоотношений. В этом втором случае лингвокультурология как дисциплина, занимающаяся вопросами опредмечивания средствами естественного языка любых феноменов культуры, втягивает в сферу своих интересов правовые представления самых разных людей, в том числе и профессиональных юристов.
Правовое сознание ( правосознание ), оказывающееся в развиваемой нами логике объектом междисциплинарной области, формирующейся на пересечении правоведения и лингвокультурологии, в правоведении трактуется как одна из форм общественного сознания, проходящая именно по его ведомству, а именно – теории права, ср. авторитетное энциклопедическое толкование: « Право … в объективном смысле система общеобязательных, формально определенных норм, установленных и обеспечиваемых силой государства и направленных на регулирование поведения людей и их коллективов в соответствии с принятыми в данном обществе условиями социально-экономической, политической и духовной жизни» [15, с. 732]. Субъективное право , соответственно, трактуется как процесс и результат проецирования индивидом объективных правовых норм на реальности повседневного существования, на установки «действовать в определенной ситуации способом, установленным правовой нормой, или воздержаться от совершения соответствующего действия …» [Там же]. Следуя этим определениям, можно заключить, что субъективное право (правовая культура) оказывается объектом культурологии права , а отображающие явления правовой культуры языковые / текстовые средства – объектом юридической лингвокультурологии . В этом случае задача формирования, развития и совершенствования правосознания граждан – таким образом внести формально установленные нормы права в сознание населения, чтобы было обеспечено взаимодействие институциональных правовых и обиходных лингвоконцептуальных структур, обеспечивающих регуляцию поведения как отдельных людей, так и коллективов, групп, сообществ, партий и т. п.
В рамках лингвокультурологии права исходная задача связана с выявлением тех представлений о праве (в самых разных смыслах этого слова, взаимосвязи между которыми оказываются отдельным предметом изучения), которые в рамках повседневности , без специального воздействия институциональных правоохранительных структур, выступают – вместе с нравственностью, религией и моралью – в качестве регуляторов человеческого поведения.
Разграничивая, а следовательно, в чем-то противопоставляя профессионально-юридический и обиходно-правовой типы (языкового) сознания, важно под- черкнуть: внешне «одни и те же» слова в них выступают в сходных, но разных значениях и смыслах; выявить перечень ключевых лексем, составляющих лингвокогнитивную область пересечения этих двух типов сознания, установить состав и структуру соответствующих лингвокогнитивных областей (семантических полей), специфику взаимодействия между их единицами – вот основные конкретно-исследовательские задачи как юридической лингвокультурологии, так и лингвокультуро-логии права.
Правовые и общекультурные концепты, центрирующиеся на ключевых лексемах типа право, закон, долг, обязанность, справедливость , чаще всего существуют под одним и тем же именем, которое оказывается омонимичным, и обыденное сознание «теряется»: где правовое (установленное законом) а где – нечто иное , «собственно человеческое», диктуемое нравственностью, религией и моралью, которые – превыше любого юридически оформленного права?
Ключевая лексема, экспонент (план выражения, «оболочка») которой является общим для профессионально-юридического и обиходно-правового типов правового сознания, – существительное право , по сути, омонимичное. Есть терминологическое юридическое прочтение этой лексемы (тогда мы имеем дело с термином право ), и есть общеупотребительное существительное право – с богатым деревом значений, в ряду которых обычный носитель языка (не юрист) ищет прежде всего «самого себя», того, что касается «всей жизни», и лишь затем интересуется тем частным, что связано именно с юридическими аспектами жизни.
К сожалению, современные академические толковые словари эту особенность языкового сознания, связанную с производностью юридического, терминологического понятия права, не учитывают и в числе исходных, первичных называют именно правовые, по своей сути терминологические значения, ср.: « Право … 1. только ед . Совокупность устанавливаемых и охраняемых государством моральных норм, правил поведения, регулирующих общественные отношения между людьми. Крепостное п. П. феодального общества. Соблюдение норм права . <…> 2. Наука, изучающая отражение этих законов и постановлений в законодательстве; учебная дисциплина такого содержания. Лекция по уголовному праву. Читать древнерусское п . 3. Предоставляемая законами государства свобода, возможность действовать, осуществлять что-л. или пользоваться чем-л. П. наций на самоопределение. Политические права граждан. П. собственности . <…> 4. Официальное разрешение на что-л.; допуск к выполнению каких-л. обязанностей, к занятию какой-л. должности, чина. П. держать экзамен. П. на внеочередное обслуживание . <…> 5. Возможность действовать, поступать каким-л. образом. Бороться за п. печататься. Имел п. входить к шефу без доклада. Можешь уходить, твое п . (о возможности поступать по своему усмотрению)» [13, с. 953].
Если рассматривать цитированные толкования сквозь призму векторного прочтения оппозиции «власть – человек», то первые четыре толкования связаны с вектором «власть → человек», с логикой этатократии (из фр. état ‘государство’ + … кратия , буквально «власть государства»: «власть распоряжается, человек исполняет»), лишь пятое толкование – вне контекста этой оппозиции.
Обратим также внимание на принципиальную неточность (если не явную ошибочность) толкования первого значения: «совокупность устанавливаемых… государством моральных норм». Моральные нормы, тем более «правила поведения» не «устанавливаются», а складываются в обществе независимо от воли человека и/ или государства (подобно тому как формирование и развитие языка не зависит от воли человека или государства, которые могут лишь упорядочивать, влиять на него, но никак не «устанавливать»), затем лишь фиксируются и упорядочиваются – но в традиции, этике, не в праве. Иллюстрации к толкованию данного значения также вызывают недоумение: крепостное или феодальное право, разумеется, как-то связаны со специфическими моральными нормами, но отнюдь не директивными отношениями.
Как видим, современное лексикографическое решение отражает идеологию «государствоцентричности», представление о доминировании государства над человеком : не «государство для человека», как в случае антропоцентрического взгляда, но «человек для государства».
Совершенно иначе строится толкование существительного право в Словаре В. И. Даля, более точно отражающем реальности русского менталитета и языкового сознания, ср.: « Право … данная кем-либо или признанная обычаем власть, сила, воля, свобода действия; власть и воля в условных пределах. Ему дано право карать и миловать. Право родителей над детьми не крепостное . <…> Право на что , основательность, законность. Право на благодарность , по заслугам; право на орден, на чин, пенсию , по закону. || Право , наука законоведенья…, юриспруденция, или одна из ветвей науки этой. Право гражданское, военное, уголовное, римское и пр.» [9, т. 2, с. 377].
Ключевой элемент цитированного толкования, которое без всяких кавычек можно считать гениальным, – «власть и воля в условных пределах».
Во-первых, в этой формулировке «власть» и «человек» не противопоставлены, не иерархизированы («кто главнее»), но со -поставлены, трактуются как рядо-положные: власть и воля ; во-вторых, право определяется через «условный предел», который может быть очень разным: по обычаю, заслугам, закону.
Обыденное сознание антропоцентрично, а не «юридоцентрично», что ярко проявляется в материалах массового ассоциативного эксперимента, хорошо коррелирующих с далевским прочтением семантики сущ. право . Наиболее частотные ассоциаты в академическом «Русском ассоциативном словаре»: « Право : на жизнь 29 ; на труд 13 ; лево 9 ; закон , на отдых 8 ; быть , выбора, человека 7 ; иметь, мое, юрист 4 ; жить , на риск, на свободу, на смерть, сильного, суд , уголовное 3 » [14, с. 499]. Как видим, преобладают синтагматические ассоциации по моделям «право на что » и «право – какое »: право – на труд / отдых / риск / свободу / смерть; право – быть, иметь, жить; право – выбора, мое, сильного . Ожидаемая парадигматическая ассоциация право – обязанность представлена в реакциях только двух информантов. Вывод очевиден: право в русском языковом сознании слабо ассоциировано с обязанностью .
Крайне несимметричны и словообразовательные гнезда: достаточно обширное гнездо с заголовочным право и нулевое – с обязанность (даже прилагательного * обязанностный нет [16]). Разумеется, от структурно простого существительного право закономерно образуется больше производных, чем от структурно сложного обязанность . Но наличие весьма обширного ряда сложных производных с начальной частью право -, которая, по сути, выступает в роли префиксоида, при полном отсутствии аналогичных производных с начальным обязанность все-таки заслуживает того, чтобы ее отметить, ср.: правоведение, правомерность, правонарушение, правонарушение, правообладатель, правоотношение, правопорядок, правопредшественник, правопреемник, правоприменение, правосознание, правоспособность, правосудие, правотворчество .
Известная лингвистическая эвристика: подставить вместо одного элемента другой и попытаться интерпретировать смысл того, что вышло, например: * обязан-ностеведение, *обязанностемерность, *обязанностенарушение и т. д. Получаются слова, явно намекающие на проблемы, над которыми стоит задуматься: к примеру, ведь не только права получает правопреемник , но вместе с ними и какие-то обязанности . Однако само существительное правопреемник на это явно не намекает, обязанности – только в пресуппозиции (в подразумеваемой части смысла).
Из сказанного не следует, что у русских слабо развито «сознание обязанностей», скорее наоборот: недостаточно развито сознание своих прав – как проявление национальной черты безынициативно полагаться на отечески заботливые «верхи» и как наследие сначала царской, затем советской власти.
Кроме того, русское обыденное правосознание существенно отличается от западного по типу взаимодействия с нравственным началом. Европейское правосознание фундируется нравственными категориями «порок / добродетель» (что, заметим, неизбежно ведет к крайностям: то безудержное пуританство, то превознесение заведомо порочного, например, гомосексуализма, что русская культура категорически не поддерживает [3]). Идеал русской нравственности – над этим противопоставлением. Верно заметил В. В. Колесов: «Идеал русской нравственности – конкретная нравственность. Гармоничное, ладное , соединение идеала и личности» [11, с. 122]. Не добродетели и пороки высчитывать, а тянуться к идеалу. Вопрос о добродетелях и пороках – это вопрос о поступках, не о внутренней сути. Для русского менталитета поступки – не главный критерий оценки человека. Важно не столько то, что он делает , сколько кто он такой , что он собой представляет – в конечном счете, пред Божьим ликом. Такая нравственная позиция «по человеческой высоте» превосходит любое правосознание, фундирующееся на частных категориях.
Нравственное, этическое и правовое в русском языковом сознании находятся в отношениях «взаимопронизывания», – при доминировании нравственного начала, что, между прочим, отзывается даже в социальных ожиданиях от судей «судить по закону и внутреннему убеждению», то есть опираясь на закон и голос совести (= нравственности), не говоря уже о том, что в русском менталитете Справедливость всегда воспринималась как явление, стоящее над законом, как Закон вечный. Именно это имел в виду совсем еще молодой Пушкин в оде «Вольность» (1817): «Владыки! вам венец и трон / Дает Закон – а не природа; / Стоите выше вы народа, / Но вечный выше вас Закон». Именно «вечный», а не земной. Земные законы подвластны царям, вечные – руководят и царями, и подданными.
Ключевая проблема формирования правосознания в своей основе – нравственная, фундируется тем, что обычно называют порядочностью. Еще И. А. Ильин в работе «О сущности правосознания» (1919, первоначальное название – «Учение о правосознании»), характеризуя «основу здорового правосознания», писал: «В правосознании участвует не только “знание” и “мышление”, но и воображение, и воля, и чувство, и вся человеческая душа. Недостаточно верно знать свои правовые полномочия, обязанности и запретности; бывают люди, которые отлично знают их и постоянно злоупотребляют этим знанием для того, чтобы превысить свои полномочия, преуменьшить свои обязанности и сложить с себя запретности. Необходимо не только знать все это, но и признавать в порядке самовменения и, признавая, иметь достаточную силу воли для того, чтобы соблюдать признанное» [10, с. 230]. Подобно тому как в любой сложной системе управляющий фактор находится за пределами системы или, во всяком случае, не является ее частью, так и механизмы самовменения правового находятся за пределами правового сознания, их фундамент – обыденные представления об этически приемлемом / неприемлемом и выше этического – о нравственном.
Перейдем к подведению итогов. Лингвокультурология, в логике развития современной филологии как целом [4], по самой сути «антропоцентрична»: исследование языковых/речевых средств для нее лишь способ приблизиться к конечному объекту – человеку в его целостности; в случае лингвокультурологии права – это человек как homo socialis , или homo socius ‘общественный’ (< лат. socialis ‘товарищеский, приятельский, дружеский > общительный, общественный’ < socius ‘общий, совместный; находящийся в союзе, союзный’), как homo institutionis ‘институциональный, «человек институций»’ (< лат. institutio ‘устройство; образ действия’ < instituere ‘ставить > строить, выстраивать; устраивать’ < in- ‘«в-, на-, воз-’ + statuere ‘ставить; устанавливать, возводить, воздвигать > формулировать; выносить постановление, принимать решение’), – человек, существующий в системе «разнообразных институций и институтов, ставших реальным продуктом эволюции человеческого общества в бесконечном многообразии ее форм и проявлений» [18, с. 11]; наконец, в идеале – человек как homo civis ‘человек-гражданин’, в иерархии ценностей которого личные интересы подчинены интересам «общего дела».
Правовая сфера – лишь малая часть человеческого существования; по отношению к нравственности, коренящейся в заповедях мировых религий и глубоко интимном, исходящем из бессознательного чувстве совести, и к этике, мотивирующейся структурами и содержанием всех возможных социальных отношений, право – лишь «нравственно-этический минимум», непреложность которого поддерживается, помимо нравственного чувства и опасений нарушить этические условности, силой государственного принуждения. На принуждении вся жизнь не строится, но без него ее основы рушатся – в этом, с одной стороны, ограниченность, с другой – сила и объективная необходимость права как особого социального института. Этика всегда глубже права, несмотря на всю его обширность, но, в свою очередь, составляет лишь часть нравственности как высшего регулятора человеческих отношений.
Обыденное сознание по необходимости включает как нравственную, в том числе духовно-религиозную, так и этическую, и правовую составляющие. В этом истоки конфликта между обыденным («общим») и правовым («частным») сознанием: обыденное – гибко, диффузно, многогранно, правовое – ригидно, логически выверенно, связано со строго определенными аспектами человеческих отношений (подробно об этом: [5]). Развитие правового сознания основывается не только / не столько на изучении правовых основ общества и государства – это лишь необходимый начальный этап (правовое просвещение), сколько на согласовании правовых концептов с общекультурными.
Таким образом, лингвокультурология права ориентирована прежде всего на «академические» задачи, обусловленные необходимостью определить на основе анализа языковых / речевых средств место правовых понятий и представлений в культуре как целом; юридическая лингвокультурология преимущественно нацелена на сугубо конкретные вопросы, связанные с правовой практикой: например, в рамках лингвистической судебной экспертизы определить причины / цели использования говорящим обсценных (нецензурных) или потенциально оскорбительных выражений и особенности реакции адресата речи и окружающих на такие выражения в разных условиях общения; найти оптимальные способы речевого поведения юристов различного профиля (следователя, прокурора, адвоката и т. д.) в различных профессио- нальных ситуациях, связанных с этно- и лингвокультурными особенностями участников коммуникации; установить, какие лингвистические факторы препятствуют / способствуют развитию правосознания и правовой культуры населения и т. п.
Задачи формирования, развития и совершенствования правосознания могут решаться тремя основными лингвокогнитивными путями: 1) от правовых норм, фиксированных в соответствующих правовых терминах, – к соотносительным с ними обиходным представлениям о правах и обязанностях в их взаимосвязи с нравственностью и моралью ( юридическая лингвокультурология ); 2) от обиходных представлений, связанных с ключевыми словами, полисемичными либо омонимичными, выступающими и в профессионально-юридических (собственно правовых), и в обиходных значениях, – к осмыслению институционально установленных правовых норм ( лингвокультурология права ); 3) на основе сопоставления семантики терминов права и соотносительных с ними обиходных значений соответствующих лексем.
LINGUISTIC CULTUROLOGY OF LAW
Tver State University the Russian Language Department
Список литературы Лингвокультурология права и юридическая лингвокультурология: два типа правового сознания
- Александров А. С. Введение в судебную лингвистику. Н. Новгород: Нижегородск. правовая академия, 2003. 420 с.
- Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2007. 592 с.
- Волков В. В. Гомосексуализм в современной России: лингвокультурологический аспект//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 6. С. 168-173.
- Волков В. В. Основы филологии: антропоцентризм, языковая личность и прагмастилистика текста: курс лекций/Тверской гос. ун-т. Тверь, 2013. 147 с.
- Волков В. В., Воднева А. А. Правовое и этическое сознание как бинарный объект лингвокультурологии//APRIORI. Серия: Гуманитарные науки». 2013. № 2. С. 14.
- Галяшина Е. И. Основы судебного речеведения: монография. М.: Стэнси, 2003. 236 с.
- Голетиани Л. О развитии юридической лингвистики в России и Украине//Studi Slavistici. 2011. № VIII. С. 241-262.
- Грачев М. А. Лингвокриминалистика. Н. Новгород: Нижегородск. гос. лингв. ун-т, 2009. 280 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Рус. яз., 1999.
- Ильин И. А. Собр. соч.: в 10 т. Т. 4. М.: Рус. книга, 1994. 624 с.
- Колесов В. В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2007. 624 с.
- Наумов В. В. Лингвистическая идентификация личности. М.: КомКнига, 2006. 240 с.
- Новейший большой толковый словарь русского языка/гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт; М.: РИПОЛ классик, 2008. 1536 с.
- Русский ассоциативный словарь: в 2 т. Т. 1: От стимула к реакции/Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова, Н. В. Уфимцева и др. М.: Астрель: АСТ, 2002. 784 с.
- Тихомирова Л. В., Тихомиров М. Ю. Юридическая энциклопедия. М.: Изд. Тихомирова М. Ю., 2008. 1088 с.
- Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: в 2 т. М.: Рус. язык, 1985.
- Юридическая лингвистика //Сибирская ассоциация лингвистов-экспертов. URL: http://siberia-expert.com/news/sajt_juridicheskaja_ lingvistika/2009-09-28-42. (Дата обращения: 14.07.2016.)
- Homo institutius -Человек институциональный/под ред. О. В. Иншакова. Волгоград: Изд-во Волгогр. ун-та, 2005. 854 с.