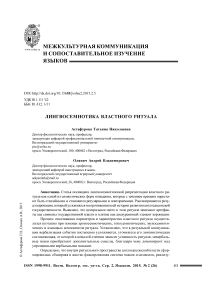Лингвосемиотика властного ритуала
Автор: Астафурова Татьяна Николаевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 2 (26), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена лингвосемиотической репрезентации властного ритуала как одной из символических форм поведения, которые с течением времени перестают быть стихийными и становятся регулярными и повторяемыми. Рассматривается ритуал коронации, который усложнялся на протяжении всей истории развития англосаксонской государственности. Выявлено, что центральное место в этом ритуале занимают артефакты как символы государственной власти и клятвы как дискурсивный элемент коронации. Процесс означивания параметров и характеристик властного ритуала осуществлялся поэтапно при помощи хроносемиотических, топосемиотических, звукосемиотических и языковых компонентов ритуала. Установлено, что в ритуальной коммуникации вербализация события постепенно усложняется, уточняется его лингвистическая составляющая, от которой в немалой степени зависит успешность ритуала; невербальные знаки приобретают дополнительные смыслы, благодаря чему доминируют над упрощенными вербальными знаками. Определено, что внутри ритуального пространства англосаксонской власти сформировалась обширная и жестко фиксированная система знаков и символов, реализующих функцию взаимодействия между сувереном и его подданными, - три обширные группы знаков, которые номинируют коммуникативную ситуацию, характерную для англосаксонской властной ритуальной коммуникации: знаки-регулятивы, знаки-процессивы и знаки-классификаторы. Эти знаки власть широко применяет как инструмент воздействия на общество, используя социальные стереотипы и этнопсихологические ассоциации.
Лингвосемиотика, знак, символ, власть, ритуал, ритуальная коммуникация, артефакты, клятвы
Короткий адрес: https://sciup.org/14969858
IDR: 14969858 | УДК: 811.11142 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2015.2.5
Текст научной статьи Лингвосемиотика властного ритуала
DOI:
Власть появилась с возникновением человеческого общества и в той или иной форме всегда сопутствовала его развитию. Самые простые формы власти – семейно-родовая и племенная – утверждались у кочевых народов. С развитием оседлости постепенно развивались более сложные формы власти – территориальная, обусловленная необходимостью организации общественного производства, и патриархальная, немыслимая без подчинения всех участников единой воле и регулирования социальных отношений между людьми. С появлением классов и государства кровные, родовые связи были разрушены, моральный авторитет старейшины рода сменился авторитетом правителя, власть которого отделилась от общества и встала над ним, что значительно упростило отношения в социуме и свело их к понятиям «господство» и «подчинение». Аристотель писал: «...во всем, что, будучи составлено из нескольких частей, непрерывно связанных одна с другой или разъединенных, составляет единое целое, сказывается властвующее начало и начало подчиненное» [1, с. 382].
Сущностные характеристики системы власти определяют природу государства и раскрываются в соответствующей лингво-культуре через лингвосемиотическое пространство, разноуровневые властные номинации и дискурсивные параметры – знак, слово, текст. Лингвосемиотика англо-саксонской власти фиксируется в наименованиях специфических артефактов – символов могущества, вещей, отсылающих к магическому воздействию на социум. Предметы власти отражают усложнение иерархических отношений в социальной реальности, в значительной мере порождаемых интерпретацией этих предметов. Знаки власти (regalia – регалии) интересны тем, что на архаических этапах прав- ления схожи во многих культурах по своим функциям и форме: железные меч, щит, шлем как символы воинского старшинства (оружие демонстрирует воинственную природу правителя). Уже в античности символом власти был меч: при коронациях англосаксонские короли опоясывались мечом, как это делалось при коронациях римских императоров, после завершения ритуала выезжали верхом на вершину холма и там размахивали мечом, поворачиваясь в каждую из четырех сторон. Это был символ готовности отражать нападение врага, с какой бы стороны он ни наступал на королевство. Доспехи и щит в монархических ритуалах имели «ореол» трагизма: так, у англосаксов государственный щит выносили только при похоронах правителя. В более развитых культурах формы, количественная и символическая значимость знаков власти постепенно усложняются: золотые корона, щит, меч, скипетр, держава, знамя. К регалиям в широком смысле слова начинают также относить трон, порфиру и другие предметы парадной королевской одежды.
Особую роль королевские регалии начинают играть в процессе смены власти – процессе всегда напряженном, неустойчивом и опасном. Как символ обретения власти начинает рассматриваться ритуал коронации, который обеспечивал с помощью магических по существу артефактов легитимную и цивилизованную передачу власти. Ритуал коронации усложнялся на протяжении всей истории развития англосаксонской государственности. При коронации Елизаветы II, наряду с традиционными регалиями, использовались государственный гимн, государственная печать и государственные штандарты: именно эти регалии неизменно вовлекались в коронационные ритуалы и играли стабилизирующую роль в социальных процессах.
По мере усложнения ритуала обретения власти символическую значимость приобретают такие предметы, как одежда, головные уборы, знаки отличия (награды и ордена), украшения монарха. Кроме одежды и наград, существенным атрибутом власти становятся трон и стол короля, которые с развитием культуры получили символьное значение «престола» как указания на близость к Богу и божественное происхождение королевской власти. Наконец, важным символом королевской власти становятся личные средства перемещения, поэтому в древности властителя часто изображали верхом на коне, в колеснице или карете как символе власти, который использовался в особо торжественных случаях. Так, следуя древней традиции, королева Елизавета II до сих пор ежегодно проезжает, сидя в парадной карете, «золотую милю» в Лондоне для открытия Парламента Великобритании.
По мере разветвления власти / усложнения структуры власти знаки монаршего правления уточняются во временных (хроно-семиотических) и пространственных (топосе-миотических) компонентах властных ритуалов. Так, монарх не управляет ( rulev ), а правит ( reignv ), выполняя презентационные функции; за шерифом как представителем королевской власти в настоящее время сохраняются лишь ритуальные / церемониальные функции в связи с исчезновением института ше-рифства ( High Sheriff – the chief officer of the King or Queen in a county with mostly ceremonial duties) (LDELC); социальная значимость коронации как ритуала легитимного подтверждения власти, дарованной Богом, сводится к театрализованной церемонии, в которой изначальное многокомпонентное содержание заменяется пышной формой. Изменение функций власти детерминируется «усложнением» среды их реализации, что проявляется в динамике властного ритуала, в частности ритуала коронации.
Ритуал относится к числу символических форм поведения, которые с течением времени перестают быть стихийными и становятся регулярными и повторяемыми. Повторяемость события становится той характеристикой, которая ведет к его формализации, то есть ритуализации через определение места и границ протекания события, регламентации его роле-
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ вой структуры, предписанию разрешений и ограничений на действия участников, выявлению вовлеченных в событие символов и знаков [2]. Ритуал представляет такую сторону вещей, действий, явлений, которая в обыденной жизни «затемнена», не видна, но на самом деле определяет их истинную суть и назначение. Власть «обживается» в пространстве события и формализует его поэтапно.
На первом этапе определяется место протекания события, событие становится топологически обусловленным. Так, коронация традиционно проводится в Вестминстерском аббатстве ( a Coronation Church ). Горас Уолпол в письме сэру Горасу Манну размышляет о ритуале коронации следующим образом: «What is the first sight in the world? A coronation. What do people talk most about? A coronation. What is delightful to have passed? A coronation» [4, p. 7]. Коронация, по выражению Эдварда Карпентера, архидьякона Вестминстерского аббатства, является древнейшим ритуалом, который использовался для подтверждения легитимности выбора монарха народом, его самопожертвования и освящения Богом его правления: «Coronation indeed was the ancient ritual which was used in its inclusion of election, confirmation of the people’s choice, selfdedication and consecration...» [4, p. 31]. Начало коронации как ритуалу было положено в 973 г. н. э. королем Эдгаром в соборе города Бат: «to establish his throne not only on the right of conquest or papal benediction, but on the support of the sacred hallowing which coronation would give him» [4].
На втором этапе определяются границы протекания события, за которым закрепляются символы и знаки, придающие пышность триумфальным церемониям введения во власть (коронация, инициация, инаугурация): регалии власти, обилие золотых украшений, оружия, красивых и дорогих одеяний, колесниц, украшенных цветами коней, дающие представление о могуществе и богатстве монарха, его таланте воина и государственного деятеля. Так, придворный историк Тюдоров Эдвард Холл описывает торжественное убранство придворных, принявших участие в коронации Генриха VIII и Екатерины Арагонской: «The knights presented themselves before the king all on horseback and armed from head to foot they each had one side of their armor-skirts and horse-trappings made of white velvet embroidered with gold roses and other devices, and the other made of green velvet embroidered with gold pomegranates. On their headpieces each wore a plume of gold damask. Following them, blowing horns, came a number of men dressed as foresters or gamekeepers in green cloth, with caps and hose to match» (III).
На третьем этапе регламентируется сам ход события, определяются репертуар действий, сопровождающих событие, ролевая структура события (его участники и их функции); вводятся правила развития события, налагаются процессуальные ограничения. Так, в регламенте коронации Генриха VIII и Екатерины Арагонской (1509 г.) придавалось особое значение хроносемиотическому компоненту ритуала ( Sunday – религиозно значимый день, Midsummer’s Day – священный праздник летнего солнцестояния, особо значимый для англосаксонской паствы).
Начало церемонии было строго фиксированным ( at the appointed hour ); в соответствии с правилами ритуала в коронации принимали участие: придворные по праву, закрепленному за ними указами, историческими прецедентами и особыми привилегиями ( the barons of the Cinq Ports ), высшее духовенство ( archbishop of Canterbury, prelates of the realm ), знать и наиболее уважаемые горожане ( the nobility and a large number of civic dignitaries ), которым отводились определенные места в соответствии со статусом ( Each noble and lord proceeded to his allotted place arranged earlier according to seniority ).
Ритуал коронации предусматривал также застольную часть, семиотика которой обильно маркирована знаками иерархической структуры власти («the lords spiritual and temporal paid homage to the king and, with the queen’s permission, returned to Westminster Hall – each one beneath his canopy – where the lord marshal bearing his staff of office ushered all to their seats» (III)) .
Топосемиотический компонент коронации проявлялся:
– в строгой фиксации расположения ее участников за столом во время церемониальной трапезы: «The nine-piece table being set with the king’s estate seated on the right and the queen’s estate on the left» (III);
– в нарочитых декоративности и величине пространства, в рамках которого протекала трапеза; эти топосемиотические компоненты подчеркивали величие и могущество власти суверена: «At the sound the duke of Buckingham entered riding a huge charger covered with richly embroidered trappings, together with the lord steward mounted on a horse decked with cloth of gold. The two of them led in the banquet which was truly sumptuous with a great number of delicacies» (III).
Звукосемиотический компонент ритуала подчеркивал строгую последовательность и торжественность властного действия: коронация сопровождалась хоровым пением церковных молитв и гимнов, подача каждого блюда во время пышного пиршества – звуками фанфар («the first course of the banquet was announced with a fanfare» (III)) . По особому звуковому сигналу сменялись ритуальные действия и народ извещали о вступлении монарха на трон («There was a firing of guns and chamber music between 4 and 5 o’clock; by 6 o’clock began the proclamation of the Queen, with two heralds and a trumpet blowing, and so went through Cheapside to Fleet Street, proclaiming the Queen» (III)).
На четвертом этапе происходит вербализация ритуального события, уточняется его лингвистическая составляющая, устанавливается зависимость успешности реализации события от его лингвистического обеспечения. В ритуальной коммуникации невербальные знаки усложняются, благодаря чему доминируют над упрощенными вербальными знаками, то есть «удлинение невербального компонента в ритуале происходит за счет сокращения вербального» [3, с. 15]. Но, будучи усеченным, вербальный компонент властного дискурса становится центральным элементом ритуала коронации, предусмотренным ее правилами. Так, клятва Елизаветы I заботиться о своих подданных и процветании королевства немногословна, однако в ней концентрированно передается смысл ритуала – использовать дарованную Богом верховную власть на благо подданных и всего королевства: «And whereas your request is that I should continue your good lady and be Queen, be ye ensured that
I will be as good unto you as ever Queen was unto her people. No will in me can lack, neither do I trust shall there lack any power. And persuade yourselves that for the safety and quietness of you all I will not spare if need be to spend my blood. God thank you all» (IV).
Клятва подданных на верность монарху, первоначально звучавшая как ответ на вопрос о признании монарха (The Recognition Question: «Will you take this most noble prince as your king and obey him with great reverence, love and willingness?» and Reply to the Recognition Question: «Yea, Yea!» (I)), в дальнейшем приобрела форму присяги на верность, которую вначале приносит глава Тайного Совета ( Privy Councilor ), а затем его члены. Присяга лорда Бергли (1570 г.), канцлера Елизаветы I, лингвистически сложна, отличается жесткими модальными и дискурсивными формулами ( you shall swear, you shall keep secret, you shall not reveal, you shall not let, you shall bear faith and true allegiance, you shall assist and defend, you shall do as a faithful and true councillor , etc.), а также атрибутивными характеристиками высшей степени лояльности ( to the utmost, uttermost, at all times , in all things, true, faithful ).
Коронационный ритуал не допускал никаких отклонений во время чтения канонических библейских текстов. Так, лорд Мельбурн, свидетель коронации королевы Анны, вспоминал, что, когда епископ Бата намеренно пропустили две страницы библейского текста как вербального компонента затянувшейся церемонии, королева Анна, обнаружив ошибку, заставила закончить церемонию в соответствии с каноном: «The Bishop of Bath turned over two pages and told the Queen that it was all over and they duly retired to St Edward’s Chapel, the Queen on finding out the mistake insisted on proper finishing the service, although I remarked, “What does it signify?”» [4, p. 29].
На пятом этапе событию придается статус зрелища: для того, чтобы воздействовать на эмоции социума, оно должно стать визуально выразительным и эмотивно заряженным. Событие драматизируется и... театрализуется для максимального воздействия на социум [2]. Такой важный в государственном отношении ритуал, как коронация властных персон, неминуемо подвергался режис-
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ суре и театрализации. Как отмечают свидетели коронации Елизаветы I, праздничные представления начались за день до церемонии коронации и разыгрывались в разных частях Лондона. Каждое из пяти представлений ( spectacle, pageant ) было тщательно продумано, инсценировано и имело свой символический смысл. Они разыгрывались перед жителями столицы для того, чтобы разъяснить им суть ее будущего правления.
Во время третьего представления лорд-мэр вручил Елизавете золотой предмет, символически демонстрирующий единение столицы и короны («During the third pageant the Lord Mayor presented Elizabeth with a gift of gold, symbolically demonstrating the interdependence of the City and the Crown» (IV)). В четвертом спектакле процветающее королевство (Елизаветы) противопоставлялось разлагающемуся (Марии). Главным действующим лицом выступала Правда, которая преподносила королеве Библию с надписью на английском языке «Слово Правды». Ко- ролева, принимая дар, целовала Библию и прикладывала ее к груди под громкие приветственные возгласы толпы («In the fourth pageant, a decaying commonwealth (Mary’s) was contrasted with a thriving one (Elizabeth’s). It featured the figure of Truth, who was carrying a Bible written in English and entitled the Word of Truth. Truth presented the Bible to the Queen, who kissed it and laid it on her breast to the cheers of the crowd» (IV)).
В пятом представлении предсказывалось долгое и благополучное правление Елизаветы: она изображалась в облике ветхозаветной Деборы-прорицательницы, спасшей Дом Израилев и правившей затем сорок лет («The task ahead of her was presented in the final pageant, with Elizabeth portrayed as Deborah, the Old Testament prophet, who rescued the House of Israel and went on to rule for 40 years» (IV)).
Эффективность театрализованных представлений была огромной: комбинация знаков, вовлеченных в театральные действия, делала очевидными величие и королевское достоинство Елизаветы в сочетании с простотой общения, и это нашло отклик в сердцах горожан, полюбивших ее («Elizabeth excelled in the starring role in such spectacles, managing gracefully to combine the dignity and grandeur of her position with a common touch that allowed the public to warm to her. The procession was basically a popularity contest and it was a resounding public relations success for the new queen» (IV)). Таким образом, именно благодаря театрализации простой народ признал своего монарха еще за день до коронации («She emerged from the ceremony to greet her adoring fans wearing a big smile, her crown and carrying the orb and sceptre of her new office» (IV)).
Наконец, на шестом этапе событие освобождается от элементов, оказавшихся малоэффективными, и повторяется уже в измененном виде, отражающем взаимодействие власти и социума в определенный период развития государственности.
Динамика англосаксонского ритуала коронации носит как лингвосемиотический, так и сугубо семиотический характер. Первым сувереном, который усложнил семиотическое пространство ритуала коронации, был Эдвард I:
он вывез из Шотландии Скунский камень, который служил троном для шотландских королей, в знак покорения Шотландии, сделав его основанием для трона в Вестминстерском аббатстве. Последующее семиотическое усложнение ритуала коронации было произведено голландским принцем Вильгельмом Оранским (1688 г.), который отказался участвовать в коронации в роли супруга, сопровождающего королеву, и потребовал быть коронованным вместе с женой – королевой Марией, дочерью Джеймса II. Для него был сделан второй коронационный трон, и супруги короновались вместе как равностатусные монархи; на монетах, отчеканенных во времена их правления, изображен их двойной барельеф.
Еще один – лингвосемиотический – способ «переаранжировки» ритуала коронации связан с постепенной заменой языка самого ритуала с латинского на английский. Коронация Вильгельма Завоевателя проводилась в Рождество 1066 г. на английском и французском языках. Позже церковным языком коронации стала латынь, и только Елизавета I, являясь сторонницей компромиссных государственных решений («The ritual itself was a clever compromise between the Catholic practices that existed and the Protestant ones that she intended to introduce» (IV)), для которой было важно постепенно заменить католическую веру верой протестантской, настояла на ведении коронации на двух языках – латыни и английском: «She was crowned in Latin by a Catholic bishop but parts of the service that followed were read twice – in Latin and English» (IV) . Впоследствии латынь была полностью вытеснена из ритуала коронаций английским государственным языком Великобритании.
Таким образом, внутри ритуального пространства англосаксонской власти в ходе истории властной коммуникации сформировалась обширная и жестко фиксированная система знаков и символов, реализующих функцию визуального конвенционального согласия при взаимодействии между сувереном и его подданными, поддержанную языковыми знаками соответствующей ритуальной природы. Мы полагаем, что можно выделить три обширные группы знаков, которые, исторически ус- ложняясь, номинируют коммуникативную ситуацию, характерную для англосаксонской властной ритуальной коммуникации, – знаки-регулятивы, знаки-процессивы и знаки-классификаторы.
Знаки-регулятивы , определяющие конвенциональную успешность ситуации ритуальной коммуникации в рамках англосаксонского властного дискурса, могут быть разделены на пять подгрупп. Знаки первой подгруппы определяют собственно участников ритуала (знаки-персоналии). К ним в англосаксонском властном дискурсе могут быть отнесены титулы и формы обращения к каждой из групп во властной иерархии – суверенам ( His Majesty the King, Her Majesty the Queen, Prince, Princess, His Highness, Her Highness ), их вельможным родственникам ( Duke, Duchess, Marquis, Marchioness, Earl, Countess, Viscount, Viscountess, Baron, Baroness, Knight ), титулованным подданным ( Lord Councilor ) , иерархам церкви ( Archbishop of Canterbury, His Grace ) и т. д .
Знаки второй подгруппы регламентируют количество и достаточность участников ритуала (знаки-квантификаторы). Так, в ритуале коронации Генриха VIII приняли участие пять баронов из пяти наиболее значимых для короны территорий ( The barons of the Cinq Ports ), что положило начало традиции: наследники этих баронов обязательно присутствуют на каждой последующей коронации британских монархов. В коронациях всегда принимает участие ограниченное и протокольно закрепленное церемониалом количество гостей. На приеме у действующего суверена ( reception dinner ) количество гостей всегда четное, присутствующих женщин и мужчин всегда одинаковое количество.
Знаки третьей подгруппы закрепляют за участниками и номинируют символический инструментарий (insignia), используемый в ритуале (знаки-символы). Важным семиотическим компонентом англосаксонской власти является цвет (The King’s Colours), выражающий символику королевского правления через флаги, штандарты и их разновидности (guidon, standard, vexillum, labarum, gonfalon, banner, banneret, banderole, oriflamme). К этой подгруппе могут быть также отнесены ритуальные предметы коро- левской власти (The Crown, The Orb, The Sceptre) и знаки принадлежности к древнему роду властителей (The Coat of Arms, The Sovereign’s Shield).
Знаки четвертой подгруппы закрепляют за каждым участником его место в ритуальном событии (знаки-локативы). Во время коронации монарх отделен от прочих участников дистанцией и находится на возвышении (сидит на троне). Во время коронационного пиршества строго фиксированы места для всех присутствующих в зависимости от их статуса во властной иерархии («The nine-piece table being set with the king’s estate seated on the right and the queen’s estate on the left» (III)). К ритуальным локативам в англосаксонском властном дискурсе относятся также места проведения ритуальных мероприятий власти ( The Westminster Abbey ) и резиденции монархов: столичные ( The Tower, The Windsor, The Buckingham Palace ) и загородные ( The Caernarvon Castle, etc. ).
Знаки пятой подгруппы описывают и регламентируют внешний вид участников властного ритуала (знаки-дескрипторы). Так, один из эпизодов коронации Генриха VIII отражает обязательный регламент одеяний для рыцарей-участников ритуальной коронационной охоты («...armed from head to foot they each had one side of their armor-skirts... made of green velvet embroidered with gold pomegranates»; «...on their headpieces each wore a plume of gold damask»), их лошадей («...all on horseback and horse-trappings made of white velvet embroidered with gold roses and other devices...»); и их челяди («...a number of men dressed as foresters or gamekeepers in green cloth, with caps and hose to match...») (IV) . Дескрипции одежды – важный компонент семиотизации правил появления при дворе: для придворных Елизаветы I были предписаны правила ношения ритуальной одежды и в специальном прескрипте перечислялись ее элементы как обязательные знаки отличия самих придворных и их прислуги.
Знаки-процессивы в семиотической системе ритуального события номинируют собственно ритуальные действия участников. Процессивы характеризуют конвенционально закрепленную последовательность ритуала и выполняют регулирующую функцию. В риту-
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ але коронации знаки-процессивы подразделяются на предкоронационные, собственно коронационные и посткоронационные. Выявлено гендерное своеобразие процессивов: так, в коронации Генриха VIII более значимым являлся посткоронационный этап – охота короля и свиты. Для Елизаветы I политически значимым был предкоронационный этап – театрализованные представления, разъясняющие суть ее будущего правления для обретения доверия и любви народа.
Знаки-классификаторы , во-первых, направляют ритуальную коммуникацию в нужное русло, к завершению ее определенного этапа, и, во-вторых, специфицируют поведение участников ритуала сообразно их социальной, статусной или национальной принадлежности. Это, с одной стороны, знаки, знаменующие собой границы этапов ритуала (гимны, колокольный звон в начале и по окончании церковной службы, в кульминационные моменты коронационного события, вставание и преклонение главы при появлении властной персоны), а с другой – знаки, распределяющие участников ритуала: 1) по поведенческим группам (в придворном протоколе – церемониймейстер – Master of ceremonies , публика – public , эскорт – escort , стража – guards , геральдический наблюдатель – Master of heraldry ); 2) по статусным группам (хозяин – the Royal Family , гости – представители знати – Aristocracy и видные граждане – Burgesses , приглашенные на ритуальное событие); 3) по национальным группам (монарх – посол ( Ambassador ) как представитель посольства и носитель чужой этнокультуры).
Деление знаков, участвующих в ритуальном событии, на три группы достаточно условно, поскольку они взаимопересекаются и взаимодополняют друг друга вследствие выполнения общей функции ритуала – регулирующей и регламентирующей поведение его участников.
В наше время ритуал коронации не имеет того воздействующего потенциала, который был характерен для коронаций предыдущих эпох, поскольку утратил большинство элементов своей лингвосемиотической системы и сведен к пышной презентации монар- ха как «талисмана процветания социума» [4]. Более того, лингвистический знак коронация нередко меняет дискурсивную сферу, расширяя узус, утрачивая присущие ему семантические компоненты описания властных проявлений и становясь «пустым» знаком в бытовых дискурсах.
Список литературы Лингвосемиотика властного ритуала
- Аристотель. Сочинения. В 4 т. Т. 4/Аристотель. -М.: Мысль, 1984. -830 с.
- Олянич, А. В. Презентационная теория дискурса/А. В. Олянич. -Волгоград: Парадигма, 2004. -507 c.
- Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации/Г. Г. Почепцов. -М.: Рефл-бук, 2001. -650 c.
- Carpenter, D. The Westminster Abbey/D. Carpenter. -L.: Harper, 1998. -48 p.
- Henry VIII and His Church. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.richardrex.org. -Title from screen.
- Life in the Elizabethan Period. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.dm.net. -Title from screen.
- Microsoft Bookshelf Encyclopedia. -Electronic data. -1 еlectronic optical disk (CD-ROM).
- Queen Elizabeth 's Cor on ation. -Electronic text data. -Mode of access: http://www.maritimegreenwich.com. -Title from screen.
- LDELC -Longman Dictionary of English Language and Culture/ed. director D. Summers. -Harlow (Essex): Longman, 1992. -1528 p.