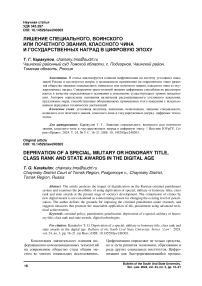Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград в цифровую эпоху
Автор: Каракулов Т.Г.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 3 т.24, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется влияние цифровизации на систему уголовных наказаний России и исследуется вопрос о возможности применения на современном этапе развития общества лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Совершение преступлений новыми цифровыми способами не рассматривается в качестве определяющего основания к изменению существующего уровня пенализации. Автором определены основания назначения рассматриваемого уголовного наказания, предложены меры, способствующие обоснованному применению этого наказания с использованием передовых технических достижений.
Уголовная политика, наказание, пенализация, лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград, цифровые технологии
Короткий адрес: https://sciup.org/147244269
IDR: 147244269 | УДК: 343.297 | DOI: 10.14529/law240303
Текст научной статьи Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград в цифровую эпоху
Констатация значительного влияния информационно-коммуникационных технологий на современное общество стала общим местом во многих социальных исследованиях.
Цифровизация определяет не только средства, но и пути развития экономики, образования и ряда других социальных институтов. Цифровизация как быстроразвивающийся процесс создания новой информационной среды в обществе и его базовых образованиях приводит к изменению различных областей активности человека, в том числе сфер профессиональной деятельности.
В этой связи основными задачами, стоящими как перед обществом, так и перед правом – регулятором и существующих привычных, и вновь появляющихся общественных отношений (или новых форм таких отношений), видятся осуществление надлежащего контроля процесса цифровизации и создание всех необходимых условий использования вновь появляющихся возможностей в социально-полезных целях.
Появление новых информационных технологий убыстряет и упрощает осуществление любой деятельности, в том числе деятельности, имеющей противоправные цели, что актуализирует рассмотрение вопроса о необходимости видоизменения мер уголовной политики, направленных на противодействие преступлениям, совершаемым с использованием таких достижений техники.
Традиционно много научного внимания уделяется вопросам криминализации указанных преступлений. Однако наряду с вопросом преступности следует решать и вопрос о наказуемости таких деяний.
В одной из немногочисленных работ, посвященных вопросам современного состояния института уголовного наказания в условиях цифровизации [5], предлагается, пусть и на теоретическом уровне, в условиях интенсивной цифровизации преступности включить в систему уголовных наказаний специальный его вид – ограничение права на цифровое присутствие в сети Интернет. Содержание этого наказания и его мера не раскрываются, так как они должны быть определены непосредственно в будущем уголовном законодательстве. Более того, с учетом сведений о лишь планируемых мероприятиях по построению системы социального кредита в КНР и, несмотря на негативную оценку соответствующего эксперимента в КНР, утверждается, что наличествуют «веские основания» реализации цифрового рейтинга общественной благонадежности в Российской Федерации, в связи с чем позитивно воспринимается возможность расширения системы уголовных наказаний за счет еще одного нового вида репрессии – снижения рейтинга общественной благонадежности.
Подобные предложения не могут восприниматься нами одобрительно как с точки зрения их обоснованности, так и с концептуальных позиций, касающихся реформирования системы уголовных наказаний.
Так, традиционные проблемы и противоречия в существующей системе неэффективных уголовных наказаний, по гипотезе автора, потенциально могут быть решены современными технологиями и, очевидно, новыми предлагаемыми наказаниями, закономерное появление которых обусловлено усилением роли «цифровых прав». Декларируется, что именно такая модернизация системы уголовных наказаний приведет к достижению целей наказания и значительно сократит расходы государства на пенитенциарную систему.
Однако и сам автор предлагаемых нововведений отмечает, что даже цифровизация исполнения существующих наказаний не лишена угроз и трудностей (в том числе касающихся финансового и кадрового обеспечения соответствующей модернизации).
Полагаем, что введение новых наказаний если и разрешит определенные проблемы исполнения традиционных уголовных наказаний, то с диалектических позиций неизбежно принесет с собой характерные для них (новых наказаний) проблемы и противоречия. В этой связи замена уже известных трудностей новыми, даже не распознанными в своем объеме, видится не только бесполезной, но даже в определенном смысле вредной. Десять лет назад профессор В. А. Уткин обратил внимание на «виртуальное» уголовное законодательство, в том числе и на нормы об уголовных наказаниях, совершенно обоснованно отмечая, что, обращаясь к исследованию такого законодательного материала, ученые остаются в стороне от решения действительно важных и реальных задач [7]. В этой связи предложения не сократить, а приумножить «виртуальное» уголовное законодательство, не исключить дублирующие и избыточные уголовные наказания из системы уголовных наказаний [8, с. 128], а дополнить ее новыми видами карательных мер с неопределенным содержанием, сомнительны.
Действительно, преступления, совершаемые с использованием новых технологий, должны быть изучены с точки зрения достаточности имеющихся средств уголовной репрессии для противодействия им. Цифровая преступная деятельность менее затратна, по- зволяет совершать злоумышленникам большое количество преступлений в короткий срок, но не во всех случаях увеличение числа противоправных деяний и совершение преступлений новыми «цифровыми» способами указывают на увеличение их общественной опасности. Но даже обратный вывод не будет, с нашей точки зрения, достаточным для изменения (тем более увеличения) отраженной в уголовном законе величины уголовной репрессии, которая в науке уголовного права именуется уровнем пенализации [1, с. 33–38, 47–48].
Учеными обоснованно констатируется не только не вызываемая необходимостью криминализация ряда деяний, но и завышенная пенализация [9, с. 119]. Увеличение уровня пенализации возможно только при обосновании вывода о недостаточности или неустранимой дефектности имеющихся уголовных наказаний для адекватной реакции государства на новые общественно – опасные посягательства и достижения целей наказания. В этой связи первоочередной задачей видится оценка охранительных возможностей имеющихся принудительных средств без изменения существующего уровня пенализации.
Является лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград адекватным наказанием в эпоху изменяющейся преступности?
При анализе в обозначенном контексте данного наказания высказываются предложения об исключении этого наказания из уголовного закона [6, с. 185–186]. В качестве аргументов авторы указывают, что этому наказанию присущ чуждый современности, преимущественно позорящий характер. Отмечается, что в существующей системе уголовных наказаний лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград не имеет самостоятельного значения, так как, например, ограничение доступа к государственной службе, прохождение которой предполагает наличие звания, возможно реализовать путем применения иного наказания – лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК РФ).
Позорящий характер лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград не только не указывает на необходимость его исключения из системы уголовных наказаний, но, напротив, именно такой характер указывает на отнесение этой принудительной меры к уголовной репрессии – уголовному наказанию, которому имманентна определенная степень страдания, связанного с лишением или ограничением благ виновного. Как неоднократно указывал основатель томской школы пенологии и уголовно-исполнительного (исправительно-трудового) права профессор А. Л. Ременсон, наказание позорит преступника именно вследствие такой его моральной порочности, которая вызывает необходимость применять к нему насилие, оправданное тем, что средствами и методами убеждения таких, как он, перевоспитать невозможно. Морально-осуждающие, порицающие свойства наказания способны оказать не меньшее, а при определенных условиях даже большее превентивно-воспитательное воздействие, чем иные ограничения, сопровождающие лишение свободы [4, с. 35, 47, 50]. Профессор В. А. Уткин справедливо отмечает, что страдание, причиненное законной санкцией в отношении лица, признанного виновным в преступлении, не входит в определение пытки, а лишение и ограничение содержательно присуще всякому наказанию [10, с. 143–144].
Сложность и противоречивость этической характеристики наказания отмечал А. Л. Ре-менсон, обосновывая, что лишение осужденного тех благ, которые в принципе представляют собой ценность не только для него, но и для общества, является неотъемлемой и специфической особенностью наказания. Таким образом, наказание одновременно выступает как добро (средство обеспечения безопасности государства) и как вынужденное зло (средство ограничения общественных и личных ценностей) [4, с. 33].
Отметим, что специальное, воинское или почетное звание, классный чин и государственные награды безусловно являются ценностями, обладание которыми указывает на высокий уровень осуществления государственной служебной деятельности. Такая деятельность социально полезна, осуществляется в интересах личности и государства. Вместе с тем эти же регалии входят в предмет пенализации соответствующего уголовного наказания.
В каком же случае указанные обстоятельства могут учитываться как положительно характеризующие виновного и, соответственно, смягчать наказание за содеянное преступ- ление, а когда эти же блага могут быть отняты при применении наказания?
В своем выступлении на V Всероссийском юридическом форуме «Цифровизация в сфере уголовной политики» 8 декабря 2023 г. профессор Н. А. Лопашенко отметила, что полезные для государства действия, за которые гражданин удостоился звания, не могут быть обесценены преступлением, которое не связано с соответствующей службой виновного или его профессиональной деятельностью. Именно на это обстоятельство обратил внимание в своем диссертационном исследовании М. Т. Валеев еще в 2005 году, предлагая ограничить возможность назначения такого наказания только за те преступления, при совершении которых использовались специальное, воинское или почетное звание, классный чин и государственные награды [2, с. 10].
В этом случае при решении вопроса о возможности лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград устраняется отмеченное нами противоречие, так как полезность выдающихся служебных достижений, в связи с которыми виновному ранее было присвоено звание или вручена государственная награда, устраняется преступным поведением виновного, воспользовавшегося своими отличительными знаками и регалиями во вред государственным и общественным интересам.
Использование при совершении преступления своего особого положения, обусловленного званием, классным чином, может не только свидетельствовать о доступе виновного к служебной информации или его возможностям в связи со службой. Наличие у виновного высоких государственных регалий вызывает доверительное отношение к злоумышленнику у потерпевшего, что облегчает совершение хищения [3, с. 59].
Таким образом, именно связь положения лица, имеющего специальное, воинское или почетное звание, классный чин и государственные награды, с совершенным преступлением должна являться основанием для назначения этого наказания наряду с иными, отраженными в ст. 48 УК РФ (категория преступления, данные о личности виновного).
Характер и обстоятельства совершения некоторых преступных деяний (например, направленных против половой неприкосновенности и половой свободы личности, государственной власти) также могут указывать на утрату морального права виновного на обладание государственными отличительными знаками и привилегиями, поскольку содеянное идет в разрез с обязательными для виновного этическими нормами, закрепленными в кодексах профессиональной этики, присяге. Иное представление о возможности сохранения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград в этом случае привело бы к крайне противоречивому статусу осужденного, отражающему и элементы государственного поощрения, и элементы официального порицания в связи с определенной деятельностью.
Изложенное позволяет утверждать, что лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград на современном этапе развития российского общества обладает самостоятельным карательным потенциалом, связано не только с запретом осуществления определенной деятельности, но с лишением обозначенных в ст. 48 УК РФ званий, чинов, наград.
Отвергая идею о неизбежном появлении цифровых уголовных наказаний, полагаем, что вновь появляющиеся возможности цифровых технологий могут быть продуктивно использованы при применении лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград. Речь не об электронной технологии определения меры наказания. Наряду с категорией преступления, определяющим основанием назначения лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград является личность подсудимого как совокупность социальных свойств человека. Основные признаки личности отражаются в нравственном отношении лица к явлениям объективной действительности, которое вряд ли возможно определить техническими средствами.
Между тем использование информационных технологий может помочь с технической точки зрения при назначении виновному лишения званий, чинов и наград в части установления у подсудимого соответствующих регалий. Перспективным видится и применение электронного межведомственного взаимодействия судов и ведомств, присвоивших звания, чины и награды, при исполнении уже назначенного наказания, предусмотренного ст. 48 УК РФ.
Список литературы Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград в цифровую эпоху
- Валеев М. Т. Свойства уголовного наказания в свете теории пенализации. Томск: Изд-во НТЛ, 2006. 168 с. EDN: QXCRIX
- Валеев М. Т. Свойства уголовного наказания в свете теории пенализации: дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2005. 211 с. EDN: NNFYSV
- Каракулов Т. Г. К вопросу о допустимости лишения специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград за киберпреступления // Уголовная политика в условиях цифровой трансформации: сб. статей материалов II Всероссийской науч.-практ. конференции. Казань, 2023. С. 52-59. EDN: QKVSUS
- Ременсон А. Л. Избранные труды (к 80-летию со дня рождения). Томск, 2003. 100 с.
- Русскевич Е. А. Уголовное наказание и цифровые технологии: точка бифуркации // Государство и право. 2020. № 7. С. 77-84. EDN: JXYLAZ
- Уголовное право. Общая часть. Наказание. Академический курс: в 10 т. Виды уголовного наказания: дополнительные, специальные, не применяющиеся / под ред. Н. А. Лопашенко. М., 2020. Т. 2. 736 с.
- Уткин В. А. "Виртуальное" уголовное и уголовно-исполнительное законодательство // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 4 (14). С. 92-98. EDN: SZDPOJ
- Уткин В. А. Основания и пути модернизации системы наказаний // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 349. С. 127-130. EDN: NYJYIB
- Уткин В. А. Уголовные наказания в России: пенализация и судебная практика // Вестник Кузбасского института. 2015. № 4 (25). С. 117-121. EDN: VCMUFT
- Уткин В. А. Проблемы теории уголовных наказаний. Томск, 2018. 240 с.