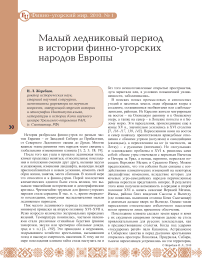Малый ледниковый период в истории финно-угорских народов Европы
Автор: Жеребцов Игорь Любомирович
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Наша общая история
Статья в выпуске: 1, 2010 года.
Бесплатный доступ
Прослеживается влияние похолодания климата XVI - начала XVIII в. на историко-демографическое развитие финно-угорских народов Европы. Отмечается, что вызванные участившимися стихийными бедствиями неурожаи привели к голоду, высокой смертности населения, сокращению численности жителей.
Финно-угры, изменения климата, голод, миграции, численность населения, демографический кризис
Короткий адрес: https://sciup.org/14722840
IDR: 14722840
Текст научной статьи Малый ледниковый период в истории финно-угорских народов Европы
Финно–угорский мир. 2010. № 1
Малый ледниковый период в истории финно-угорских народов Европы
И. Л. Жеребцов, доктор исторических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научным вопросам, заведующий отделом истории и этнографии Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН,
История разбросала финно-угров по разным частям Евразии – от Западной Сибири до Прибалтики, от Северного Ледовитого океана до Дуная. Многие важные этапы развития этих народов тесно связаны с глобальными изменениями климата [1; 2; 3; 18; 19].
После того как ушла в прошлое ледниковая эпоха, климат продолжал меняться, относительные похолодания и потепления сменяли друг друга, вызывая засухи и увлажнения, изменения ландшафта, вынуждая людей приспосабливаться к новым условиям, изменять свой образ жизни, занятия, места обитания. В полной мере это относится и к финно-уграм. Порой последствия климатических сдвигов были столь велики, что вызывали тяжелейшие исторические и демографические кризисы. Чрезвычайно трудным для финно-угорских народов стала середина II тыс. н. э., время очередного похолодания, именуемая исследователями малым ледниковым периодом.
Пик малого ледникового периода (климатический минимум) пришелся на вторую половину XVI–XVII в. Резко возросло количество экстремальных природных явлений. Температура понизилась, частыми явлениями стали различные стихийные бедствия (ранние заморозки, засухи или чрезмерно обильные дожди, град и т. п.) [2, 189]. Это приводило к неурожаям, подрывавшим хозяйство крестьянина, вызывавшим голод и высокую смертность населения. К тому же по мере похолодания климата тайга стала наступать на и без того немногочисленные открытые пространства, луга зарастали или, в условиях повышенной увлажненности, заболачивались.
В поисках новых промысловых и сенокосных угодий и пахотных земель люди обращали взоры к соседним, остававшимся необжитыми или слабозаселенными, районам. Из Карелии жители мигрировали на восток – на Олонецкую равнину и к Онежскому озеру, а также на север – в Лопские погосты и к Белому морю. Эти переселения, происходившие еще в конце XV в., значительно усилились в XVI столетии [7, 116–117 , 139 , 143 ]. Переселениям коми на восток и север поначалу препятствовали враждебные отношения с обскими уграми (вогулами) и самодийцами (самоядью), а переселениям на юг (в частности, на Летку) – с русскими (вятичами). Но «вогульская» и «самоядская» проблемы в XVI в. решились сами собой: обские угры откочевали с верховьев Вычегды и Печоры за Урал, а ненцы, вероятно, перестали посещать Верхнюю Мезень и Среднюю Ижму. Можно предположить, что эти события были связаны с воздействиями климатических изменений на некоторые ландшафтные изменения, вследствие которых для кочевых угро-самодийских народов перечисленные районы перестали представлять интерес. В результате этого коми получили возможность в середине и второй половине XVI в. начать освоение Верхней Мезени, Ижмы, района близ впадения Сысолы в Вычегду (где появилась нынешняя столица Коми Сыктывкар) и двигаться дальше вверх по Вычегде. Однако такие переселения относительно избыточного населения могли принести лишь временное облегчение.
Похолодание климата сделало земли карел и коми с их скудными северными почвами далеко не столь привлекательными для русских земледельцев, как в предшествовавшие столетия. Когда под ударами «государевых ратей» пали Казанское, Астраханское и Сибирское ханства и перед русскими крестьянами открылись просторы Поволжья, Приуралья, Сибири, тысячи переселенцев устремились на эти территории, © Жеребцов И. Л., 2010
и в частности на земли марийцев и мордвы. Исследователи отмечают значительный приток русских в Марийский и Мордовский края во второй половине XVI в. Так, из 92 селений Арзамасского уезда конца столетия только 46 оставались чисто мордовским, во всех остальных наличествовали русские жители [14, 102–103 ; 15, 71, 84, 110 ]. Массовый приток переселенцев на этническую территорию коми и карел прекратился, а наблюдавшиеся в конце XVI–XVII в. миграции уже не оказывали былого воздействия на развитие карельского и коми этносов. Именно с прекращением массовых миграций русских в Коми край следует связать стабилизацию западной границы этнической территории коми в конце XVI – начале XVII в., о которой писал Л. Н. Жеребцов [5].
Участившиеся стихийные бедствия приводили к неурожаям, подрывавшим крестьянское хозяйство, вызывавшим голод и высокую смертность населения. Русские летописи полны сообщений о «хлебном недороде» и «великом гладе». С климатическим минимумом был связан острый демографический кризис, проявившийся в замедлении прироста населения, а в ряде случаев – и в сокращении численности населения в финно-угорских регионах.
В Венгрии потери населения в результате кризисных явлений в земледелии (запустение пашни) усугубились военными потерями. Правда, во второй половине XVI в. венграм еще удавалось избегать большой убыли населения благодаря развитому животноводству, для которого сокращение посевных площадей было даже выгодным (бывшие пашни использовались как пастбища), и за счет славянских переселенцев. Но в XVII в. демографическое развитие страны явственно перешло в кризисную фазу: в начале века система расселения переживала упадок, сельские поселения пустели и подолгу (а то и вовсе) не восстанавливались, население умирало от голода и чумы. В 1685 г. в Венгрии насчитывалось 3,5 млн чел. – весьма много по финно-угорским меркам, однако примерно столько же жителей было в стране еще в конце XV в. [10, 203, 211, 245 ].
Еще более печально складывалась ситуация в Эстонии. К концу XVI в. в стране опустела половина хуторов, а в окрестностях г. Тарту – свыше 70 % хозяйств. Если в середине XVI в. в Эстонии проживало не менее 250 тыс. чел., то к исходу столетия здесь осталось около 100 тыс. В 1630–1640-х гг. численность населения достигла 70 тыс. жителей [17, 108; 8, 27]. Исследователи обычно сводят причины демографической катастрофы в Эстонии к последствиям Ливонской, Шведско-польской и Шведско-датской войн второй половины XVI – первой трети XVII в. и эпидемии чумы. Однако, как и в Венгрии, негативное и, безусловно, сильное воздействие этих явлений стало поистине катастрофичным лишь вследствие наложения на тяжелейшие неурожаи, вызваные кап- ризами климата. Русские летописи содержат немало сообщений о летних заморозках, граде и т. п. в соседних «западных странах», в частности в Восточной Прибалтике, в 1619, 1621, 1623, 1625 гг., породивших «голод великий», чрезвычайную дороговизну хлеба, употребление в пищу падали и даже людоедство [1, 108; 2, 190–191].
Обезлюдела в последней трети XVI в. значительная часть Ингерманландии [11, 189 ]. В Корельском уезде во второй половине XVI в. произошла, по оценке исследователей, демографическая катастрофа. В Задней Кореле в 1571 г. подати платили лишь 6 %, в Передней – 11,8 % тех, кто делал это ранее. Видимо, остальные разорились, умерли либо бежали. В Заонежских погостах в 1563–1582 гг. число жителей уменьшилось на 38 %, из 3 878 жилых деревень и починков осталось 2 290. В этот период в регионе частым явлением были неурожаи, сопровождавшиеся голодом и повышенной смертностью (в 1563, 1573, 1577 и 1579 гг.). В 1610-х гг. в Карелии значительно сократилось количество жителей; обитаемых поселений осталось меньше, чем опустевших. К неурожаям добавилось воздействие Ливонской и Русско-шведских войн, опричнины [13, 83 , 108–109 ; 7, 136–138 ].
Чрезвычайно трудным для финно-угорских народов стала середина II тыс. н. э., время очередного похолодания, именуемая исследователями малым ледниковым периодом.
Показательной в данном плане представляется ситуация на тех территориях расселения финно-угров, которые не были непосредственно втянуты в военные действия. При этом ученые отмечают, что хотя отдаленность севера Карелии в известной мере уберегала его обитателей от разорения и гибели в период русско-шведских столкновений, однако демографическое положение здесь было примерно таким же, как в южных («прифронтовых») районах [7, 140]. Очевидно, что раз кризис проявился на всей территории Карелии, то вызван он был не только бесчинствами войск, но и в значительной мере иными, более глобальными явлениями, а именно неурожаями и голодом.
В далеком от каких бы то ни было военных действий Коми крае демографическая ситуация складывалась тоже не самым лучшим образом. Во второй половине XVI в. сократились пашня и численность населения в обширной и самой населенной Вычегодской земле. В конце XVI – начале XVII в. в ряде волостей Коми уменьшилось число жителей. Так, в 1602 г. «много людей государевых померло, потому в Русии голод великий был два лета. Пермяки

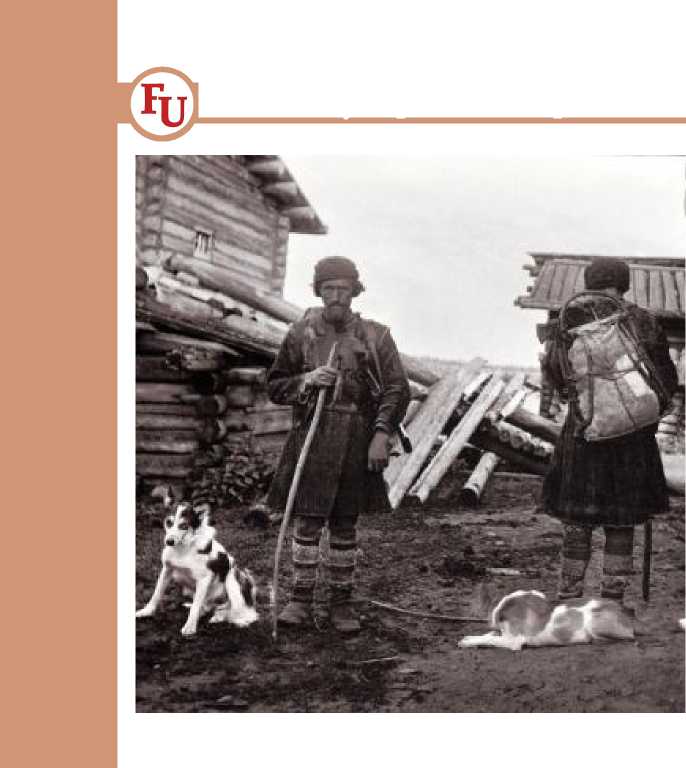
(коми. – И. Ж.) многие в голод тот разбрелись вятским и сибирским городам, а инии померли с неядения», – рассказывает об этих событиях Вычегодско-Вымская летопись [4].
Таким образом, негативное воздействие климатических изменений на демографические процессы у финно-угров несомненно. Вместе с тем нельзя не отметить, что в условиях ведения военных действий кризисные явления усиливались и протекали значительно острее, чем, например, в отдаленном от них Коми крае. Убыль населения в первой четверти XVII в. из-за голода, бегства от нищеты, гибели во время восстаний и войн отмечалась и в Марийском крае [1 4 , 114–115 ; 6, 27 ]. В Мордовии, где на голодные годы наложились кровавые события Смуты, многие жители «вымерли, а иные побиты в смутное время… , а тех мертвой мордве… жены да их и дети вымерли, и иныя побиты…» [14, 90, 111].
В середине 1620-х – середине 1630-х гг. в Карелии, Коми, Мари, Мордовии происходил рост населения, распахивались запустевшие и вовлекались в оборот новые пашни [13, 127; 7, 142; 14, 11; 15, 111]; в Коми крае осваивались «приграничные» районы на Летке и Верхней Вычегде [4]. Некоторые исследователи связывают это с более благоприятной для крестьянства налоговой политикой, проводившейся властями [7]. Бесспорно, ослабление налогового бремени сыграло важную роль, однако нельзя не указать на то, что время с середины 20-х до середины 30-х гг. XVII в. было относительно благоприятным (во всяком случае, близким к климатической норме) и для хозяйствен- ного, в первую очередь земледельческого, развития из-за временного сокращения числа экстремальных природных явлений [2, 191].
Во второй половине 1630-х – начале 1640-х гг. новая череда сильнейших неурожаев привела жизнь финно-угорского крестьянина в полнейшее расстройство. Из-за «хлебной скудости», голода, высокой смертности, бегства населения в более «хлебородные» регионы заметно сократилась численность коми, причем некоторые районы (Вымская земля, Прилузье) обезлюдели почти наполовину. В Печорском крае, по свидетельству очевидцев 1638 г., «крестьянишка помирают голодной смертью, а питаются рябиновым листом и... травою». В Прикамье в 1644 г. летом «снеги выпали великие, и хлеб позяб без остатку, и от того хлебного непомерного голоду… многие… люди… разбежалися… в хлебородные места, и многие… деревни запустели» [4].
К 1646 г. уменьшилось население и в Карелии; в последующие несколько лет этот процесс продолжался. К неурожаям (исследователи отмечают, в частности, неурожайный 1643 г.), голоду, становившемуся привычным и в коми, и в карельских землях, самоуправству властей, особенно болезненному в подобное время, вновь добавились военные столкновения [7, 133 ; 9, 457–470 ]. Рост числа дворов, запустевших из-за смерти или бегства жителей вследствие вызванной стихийными бедствиями «хлебной скудости», наблюдался в XVII в. в Мордовии. Так, в Арзамасском уезде в 1628–1678 гг. запустело 17,5 % селений; «а мордва из той деревни бежала», констатировали документы [15, 122 , 124–125 ]. В Марийском крае воздействие неурожаев усугубилось «моровым поветрием» (чумой) 1650-х гг., из-за чего некоторые земли Мари лежали «впусте» даже в конце 1670-х гг. [14, 124 ]. Много людей (около трети православных и около 5 % лютеран) погибло в середине XVII в. в Ингерманландии от голода и в результате военных действий в ходе Русско-шведской войны [11, 190 ].
С климатическим минимумом был связан острый демографический кризис, проявившийся в замедлении прироста населения, а в ряде случаев – и в сокращении численности населения в финно-угорских регионах.
Голодавшее, нищавшее население умирало или уходило из родных мест. Коми и коми-пермяки мигрировали в Сибирь. Во второй половине 20-х – середине 40-х гг. ХVII в. из Коми края в различные регионы ушли, по самым скромным подсчетам, более тысячи человек, свыше 800 из них – в Сибирь, что для коми

народа, насчитывавшего в середине столетия только 15–16 тыс. чел., было весьма значительной долей [4]. Карелы переселялись в Тверской край и другие районы [7, 132 ; 9, 457–470 ], а некоторые из них попали даже на земли коми [4]. В Россию переселялись и православные ингерманландцы [11, 190 ].
Во второй половине XVII в. в жизни финно-угров, казалось бы, наметился поворот к лучшему. Число экстремальных природных явлений уменьшилось, народ вздохнул свободнее, стал восстанавливать заброшенные поселения, распахивать пашню, осваивать новые пространства. Исследователи отмечают быстрый рост населения Карелии [7, 142 ]. Увеличивалась и численность населения Коми, активизировалось освоение «приграничных» районов, возобновлялись заброшенные ранее пашни (отчасти – усилиями пришлого населения из соседних районов) [4]. Заброшенные земли Северной и Восточной Ингерманландии стали возвращаться в хозяйственный оборот за счет притока переселенцев-лютеран из Финляндии.
Нельзя не отметить, что в условиях ведения военных действий кризисные явления усиливались и протекали значительно острее.
Малый ледниковый период напомнил о себе вновь на рубеже 1670–1680-х гг. – не только неурожаями зерновых (в частности, в Коми крае), но и недостатком рыбы даже в богатейшей Печоре (известно, что понижение температуры самым непосредственным и негативным образом влияет на развитие популяции рыб). Очевидец сообщал, что обитатели Печорского края «гладом тают и умирают... и такая нужда в сей стране повсюду на Турье, Ижме, Усть-Цильме и на Пустозерском остроге... Прежде, сказывают, рыбы здесь был достаток, и на продажу было, а ныне не токмо на продажу, но с самой весны... до сытости сами никто не ел» [4].
Особенно тяжелые последствия имел возврат холодов в 1690-е гг. Э. Ютиккала пишет, что в Финляндии заморозки постоянно портили посевы, а самым жестоким оказался неурожай 1696 г., из-за которого четверть или даже треть населения страны погибла от голода и эпидемий [16, 47]. Неблагоприятные погодные условия 1690-х гг. вызвали неурожаи и голод, разорение, бегство значительного числа жителей Карелии. Нередкими были неурожаи и в первой четверти XVIII в.; большая часть пашни запустела [13, 164–165; 7, 142–143]. В связи с этим вряд ли можно безоговорочно согласиться с тем, что именно «политика определяла направленность демографических процессов в Карелии – как в сторону увеличения плотности населения, так и в сторону уменьшения», хотя, безусловно, вывод карельских историков о «на- чальном этапе складывания государственной политики в области демографии», отнесенном к XVII в., чрезвычайно интересен и важен [7, 142–143].
Тяжело отозвались неурожаи 1690-х и в Коми. Вологодская летопись информирует, что в 1695 г. на севере Европейской России повсеместно «хлебы не сыспели и великими мразы побило. И жители тех стран, людие мужеска полу и женъска и с малыми детьми, пошли все на росходы в поволские грады и в уезды, где бы кому препитатися, доколе бог изволит». Многие переселились из Коми края в Сибирь и на Урал: только по данным переписных книг, очень неполным, в конце XVII – начале XVIII в. туда ушли 817 чел. [4].
Судя по тому что народ уходил с севера в «поволс-кие», т. е. поволжские, селения, климатические сдвиги 1690-х гг. не имели там столь суровых последствий, так что мордва и марийцы могли развиваться более стабильно. Не случайно историки отмечают приток переселенцев в Мордовию в XVII в. [15, 110–111 ]. Тем не менее и этим народам не удалось избежать бедствий рубежа столетий. В начале XVIII в. численность жителей Марийского края сократилась из-за вызванных неурожаями голода и болезней, а также бегства – в Башкирию, на Урал, в Сибирь. Некоторые уезды опустели на четверть, а то и наполовину. Особенно много народа ушло в 1707–1712 гг. [6, 45, 46 ]. Казанский губернатор (большая часть марийских земель относилась к этой губернии) докладывал в 1714 г., что к башкирам подались многие «ясачные люди». В 1730 г. отмечалось, что за 20 лет население Башкирии резко возросло; в частности, «казанские черемисы перешли в Башкирию с ясаков целыми селами и деревнями» [14, 152 , 159 , 160 ].

Fu
Не избежала вызванного колебаниями климата демографического кризиса 1690-х гг. и Эстония. Трагичными оказались для местного населения 1695 и 1696 гг.: в 1695 г. урожай погиб на полях из-за непрекращавшихся дождей и необычно ранних заморозков, в 1696 г. дожди также сыграли свою роковую роль. В результате, как пишут историки, Эстонию охватил голод, начавшийся зимой 1695–1696 гг. и продолжавшийся вплоть до 1697 г. Голодная смерть и бегство в поисках пропитания стали обыденным явлением. Очевидец рассказывал: «Многие сильные и здоровые люди бродили с места на место и слезно молили, чтобы их Христа ради приняли на работу за кусочек хлеба. Многие почернели от голода и так ослабли, что падали с ног… Деревни, дороги, поля были завалены трупами, по весне их отвозили на телегах и по 30, 40, 50 и даже больше хоронили в одной яме». За три года погибло 70–75 тыс. чел., примерно пятая часть населения Эстонии. Очевидно, с голодом (а не только с процессом «редукции имений») были связаны и восстания эстонских крестьян в 1690-е гг. Голодные годы повторялись и в последующее, как, впрочем, и в предыдущее, время. Голод сопровождался чумой, одна из ее эпидемий
разразилась в 1710 г. С наступлением XVIII в. свою лепту в демографическую катастрофу внесла Северная война. В итоге численность жителей Эстонии в конце XVII – начале XVIII в. сократилась с 350–400 тыс. до 150 тыс. [8, 30 , 32, 37 ; 17, 110 ].
Потрясения малого ледникового периода второй половины XVI – начала XVIII в. стали губительными
27 ]; среди умерших было немало ливов).
Не лучше складывалась демографическая ситуация на рубеже XVII–XVIII вв. и у венгров. Л. Контлер пишет, что в 1720 г. в стране было обработано менее 2,4 % пахотных земель, население из-за голода, войн и чумы сократилось на несколько сот тысяч человек, стало крайне малочисленным (по западноевропейским меркам!) и бедным, запустели многие поселения. В одном из районов Венгрии осталось два жилых поселения из 64, в другом – два из 200 [10, 245 ].
В XVIII в., особенно в последней его трети, историко-демографическое развитие большинства финно-угорских народов вступило в период постепенной стабилизации. Пик малого ледникового периода прошел, климат постепенно становился более мягким, благоприятным для ведения сельского хозяйства; губительные неурожаи повторялись не так часто, как в предыдущем столетии. Но об окончании малого ледникового периода можно говорить лишь применительно к XIX в.
демографический кризис.
Finno-Ugric peoples, climate change, famine, migration, population, demographic crisis для ливов, постепенно исчезавших с лица земли под воздействием голода, войн и эпидемий (в 1710 г. от чумы погибло до двух третей населения Латвии [12,
Список литературы Малый ледниковый период в истории финно-угорских народов Европы
- Борисенков, Е. П. Экстремальные природные явления в русских летописях XI-XVII вв./Е. П. Борисенков, В. М. Пасецкий. -Л., 1983.
- Борисенков, Е. П. Тысячелетняя летопись необычайных явлений природы/Е. П. Борисенков, В. М. Пасецкий. -М., 1988.
- Дулов, А. В. Географическая среда и история России. Конец XV -середина XIX в./А. В. Дулов. -Новосибирск, 1983.
- Жеребцов, И. Л. Население Коми края во второй половине XVI -начале XVIII в./И. Л. Жеребцов. -Екатеринбург, 1996.
- Жеребцов, Л. Н. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами/Л. Н. Жеребцов. -М., 1982.
- Иванов, А. Г. История марийского народа/А. Г. Иванов, К. Н. Сануков. -Йошкар-Ола, 1999.
- История Карелии с древнейших времен до наших дней. -Петрозаводск, 2001.
- Кахк, Ю. История Эстонской СССР: попул. очерк/Ю. Кахк, К. Сийливаск. -Таллин, 1987.
- Киркинен, Х. Рождение Карелии//Прибалтийско-финские народы. История и судьбы родственных народов. -Ювяскюля, 1995.
- Контлер, Л. История Венгрии. Тысячелетие в центре Европы. -М., 2002.
- Лескинен, Х. Заселение и демография Ингерманландии//Прибалтийско-финские народы. История и судьбы родственных народов. -Ювяскюля, 1995.
- Напольских, В. В. Введение в историческую уралистику/В. В. Напольских. -Ижевск, 1997.
- Очерки истории Карелии. -Петрозаводск, 1957. -Т. 1.
- Очерки истории Марийской АССР. -Йошкар-Ола, 1965.
- Очерки истории Мордовской АССР. -Саранск, 1955. -Т. 1.
- Ютиккала, Э. История Финляндии с древности до стабилизации самостоятельности в 1939 г.//Прибалтийско-финские народы. История и судьбы родственных народов.
- Ярв, А. История Эстонии//Прибалтийско-финские народы. История и судьбы родственных народов.
- Lamb, H. H. Climate: Present, past and future/H. H. Lamb. -L., 1881. -Vol. 1, 2.
- Landcebery, N. E., Dooglas K. Fragmentary accounts at weather and climate in America (1000-1670 DC) and on coastal storma to 1825/N. E. Landcebery, K. Dooglas//Technical Note BN-1029. -University of Meryland, 1984. -11.