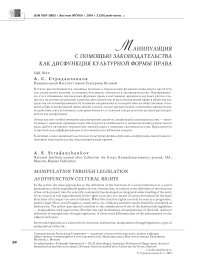Манипуляция с помощью законодательства как дисфункция культурной формы права
Автор: Страданченков Александр Симонович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 3 (59), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные подходы к определению функций социального института или социального явления, к которым, бесспорно, относится и законодательство. Подчёркивается, что в отношении определения функции права к настоящему времени в научных кругах сложилось целостное понимание единства двух моментов: а) роль (назначение) права в обществе как средства системообразования; б) основные направления его воздействия на общественные отношения. При этом функцией права можно считать только прогрессивное, позитивное юридическое воздействие, а все негативные, консервативные и т.п. влияния и их результаты должны рассматриваться как дисфункции. Автор уделяет особое внимание рассмотрению одной из дисфункций законодательства - манипуляции с помощью правовых норм. Исследуются особенности и механизм манипуляции такого рода. Даётся авторское определение манипуляции с помощью законодательства. Предлагается теоретическая дифференциация этого явления по субъектам и видам.
Законодательство как культурная форма, функция, дисфункция, манипуляция с помощью законодательства, виды манипуляции правом
Короткий адрес: https://sciup.org/14489765
IDR: 14489765 | УДК: 304.4
Текст научной статьи Манипуляция с помощью законодательства как дисфункция культурной формы права
Страданченков Александр Симонович — кандидат социологических наук, доцент кафедры общественно-гуманитарных и естественных наук Национального Института имени Екатерины Великой, г. Москва
Stradanchenkov Aleksandr Simonovich — Ph.D. (Sociology), Associate Professor of Department of socialhumanitarian and natural sciences, National Institute named after Catherine the great, Moscow
Принято считать, что законодательство как культурная форма и социокультурное явление имеет ряд предназначений, функций, которым полностью следует в процессе применения права. Но все ли проявления законодательства могут соответствовать смыслу обозначенных понятий и как оценивать его функцию, например, в случае использования законодательства в качестве средства манипуляции? И что означает — манипулирование законодательством?
Для ответа на обозначенные вопросы для начала рассмотрим понятие функции применительно к законодательству.
Функция — многозначный термин, который в начале прошлого столетия означал в основном такое отношение между элементами, в котором изменение в одном влечёт изменение в другом [10, с. 263]. В современном философском понимании она трактуется как обязанность, круг деятельности (лат. functio — исполнение) [11]. В различных сферах знания имеются и другие её определения.
В социокультурной сфере понятие «функция» прошло свой путь развития, имеющий большое значение для анализа культуры и её процессов. Неоценимый вклад в изучение этого внесли классики социологии: французский социолог и философ Эмиль Дюркгейм и американские социологи, создатели структурного функционализма Толкотт Парсонс и Роберт Мертон.
По мнению Э. Дюркгейма, функция социального института или социального явления (которым бесспорно является и законодательство) заключается в налаживании соответствия между ними и определённой потребностью общества, в рамках которого существует данное явление, институт.
Но если у Э. Дюркгейма функция ориентирована на потребности общества, а значит — на оценку полезности для последнего, то Р. Мертон, ученик и продолжатель создателя функционального анализа (Т. Парсонса), сформулировал собственную парадигму, состоящую из трёх глав- ных постулатов в отношении места, роли и предназначения (функции) любого элемента системы: во-первых, функциональное единство общества (согласованность функционирования всех его частей); во-вторых, универсальный функционализм (функциональность как полезность всех социальных явлений); в-третьих, функциональная необходимость. Подчеркнём, что при обосновании своей «теории среднего уровня» Р. Мертон не отождествляет функциональное с полезным (культурным) и необходимым для общества как такового или для какой-то его части с аксиологической точки зрения, а приходит к выводу, что одно явление может иметь различные функции — точно так же, как одна и та же функция может выполняться различными явлениями [7, с. 116—117]. В этом, по мнению Мертона, и проявляется универсальный функционализм — в важности и нужности любого элемента системы для функционирования самой системы независимо от положительной или отрицательной оценки её со стороны субъектов.
В отношении определения функции права1 до середины 90-х годов прошлого столетия не было единого взгляда среди отечественных философов и теоретиков. К настоящему же времени сформировалось достаточно целостное видение, согласно которому под функцией права понимается единство двух моментов: а) роль (назначение) права в обществе; б) основные направления его воздействия на общественные отношения [1, с. 64—68].
Архиважное значение функции права как одного из основных измерений и средств системообразования мультикультурного мир-общества придаёт немецкий социальный философ и социолог юрген Хабермас [12, с. 8, 13, 18].
Из этого можно сделать вывод о том, что в отношении законодательства как явления современные философы и теоретики права придерживаются скорее дюркгеймовско-го, чем мертоновского подхода, так как акцент делается не столько на универсальном функционализме этого явления, сколько на его аксиологическом значении, определяющем полезность, положительность для общества.
Указанное подтверждается и высказываемыми мнениями о том, что функцией права можно считать только прогрессивное, позитивное юридическое воздействие, а все негативные, консервативные и т.п. влияния и их результаты должны рассматривать как дисфункции [8, с. 12].
Не оспаривая сложившееся видение, рассмотрим одну из интереснейших, на наш взгляд, дисфункций законодательства как культурного явления — манипуляцию с его использованием.
Слово «манипуляция» в переводе с латинского «manipulus» означает — пригоршня, горсть, от «manus» — рука, и «ple» — наполнять. В качестве обычного понимания это означает действие рукой или руками в процессе выполнение какой-либо сложной работой. Применительно к общественным отношениям это понятие в большей степени употребляется в отрицательном значении — проделка, махинация. А само его толкование связывают с образованием понятия в результате ассимиляции из «maniti», присутствующего в словенском, болгарском, сербохорватском и польском языках и обозначающего «лживый, обманчивый», «приносящий вред, несчастье» [9, с. 582].
Одно из первых известных упоминаний о манипуляции имеется в работах Платона, трактующего её как «хорошую ложь», «добродетельный обман» [6].
С заменой средневековых порядков определённого застоя на активную деятельность различных социальных институтов эпохи Возрождения актуализировалась и потребность в новых инструментах управления. Известный итальянский мыслитель, философ, государственный деятель этого времени Н. Макиавелли описал в своей работе «Государь» целый ряд манипулятивных приёмов, которыми стоит пользоваться правителю для управления страной, и в частности для удержания власти и порядка в государстве. По его мнению, государю необходимо казаться сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым, прикрывая этим как лисьей шкурой своё лицемерие и обман для сохранения власти [5, с. 315—316].
Дальнейшее развитие общества привело к беспрецедентному по масштабам и активности использованию психологических манипуляций, в процессе реализации которых применяются не просто отдельные приёмы, а специальные манипулятивные технологии [3].
Современное значение слова «манипуляция» даёт в своей работе «Манипуляция сознанием» С. Г. Кара-Мурза: «Манипуляция — способ господства путём духовного воздействия на людей через программирование их поведения. Это воздействие направлено на психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей изменение мнений, убеждений и целей людей в нужном направлении». В качестве главных, родовых признаков манипуляции он выделяет: духовное, психологическое воздействие (а не физическое насилие или угрозу насилия); скрытость воздействие; наличие у манипулятора значительного мастерства и знаний [4, с. 16—17, 26].
Вместе с тем, по мнению выдающегося русского учёного В. Бехтерева, непосредственно с манипуляцией связано внушение. Причём последнее, как один из инструментов манипуляции, способно воздействовать на человека открыто, но в разных формах: в форме команд, приказов, а также путём вхождения в психическую сферу человека помимо его личного сознания или так называемого я [2].
Применительно к обозначенной в названии статьи проблеме указанный выше фак- тор имеет огромное значение. Ведь законодательство, как один из возможных элементов механизма манипуляции и внушения, имеет особый статус. Дело в том, что норма законодательства и её доведение до публики сами по себе не могут быть скрытыми, что предполагается в классическом механизме манипуляции. закон (норму) можно достаточно легко найти, изучить, попытаться понять, да и публичность ему придаётся массой современных средств коммуникации. Вместе с тем этот же фактор может отводить ему роль одного из основных, наиболее мощных средств воздействия — манипуляции в том числе.
Объясняется это специфическим местом и ролью законодательства в манипулятивном процессе. Непосредственно в социальном манипулятивном механизме воздействия на человека, который включает в себя субъект и объект манипуляции, а также совокупность средств, приёмов и способов влияния на человека, при использовании законодательства последнее обычно выступает одним из основных инструментов воздействия. Такое положение объясняется высокой степенью легитимности любого акта законодательства как такового, так как большинство людей привыкли с уважением относиться ко всему, что скрывается под словом «закон», а также тем, что сам закон, как правило, имеет реальную, обязывающую силу воздействия.
Но если признак скрытости воздействия из манипуляции можно исключить, то при наличии возможности достижения субъектом с помощью инструмента воздействия (в данном случае — законодательства) корыстных, выгодных для него или невыгодных для объекта воздействия и, по сути, неправовых последствий такое влияние является дисфункцией законодательства как культурной нормы.
Исходя из изложенного, под манипуляцией с помощью законодательства предлагается понимать процедуру преимущественно корыстного воздействия на человека
(группу лиц) и/или общественные отношения посредством системы средств, способов и приёмов, одним из основных элементов которых выступает нормативно-правовой акт (законодательство), в процессе чего сам манипулируемый человек (группа лиц) хотя и способен в целом воспринять использованное в данном случае законодательство, но последнее, как правило, является неправовым, с точки зрения принятого в данном обществе социоправопорядка, фиктивным, запутанным и/или преследующим узкокорыстные интересы отдельных лиц или социальных групп.
Фактическим аналогом указанного вида манипуляции является и ситуация, когда манипулятор ссылается на норму законодательства, либо не существующую вообще, либо искажённую манипулятором до нужного ему смысла, а манипулируемый не может в отведённых для принятия решения рамках перепроверить её правильность или противостоять ей.
С целью таксономической упорядоченности условно разделим рассматриваемую манипуляцию по следующим критериям различий — субъектам и способам.
Среди основных лиц (субъектов), использующих законодательство в качестве средства манипуляции, можно выделить так называемых творцов нормативно-правовых актов всех уровней — законодателей (законодательные и исполнительные органы власти всех уровней, работодатели) и непосредственных пользователей законами — исполнителей (представителей силовых ведомств, юристов, рекламистов и т.д.).
Помимо «традиционных» способов, видов манипуляции (сокрытие цели, подмена понятий, отвлечение внимания и пр.) в случае с использованием законодательства как средства манипуляции представляется возможным обозначить два «специфичных» в данном случае вида: создание и использование в манипулятивных целях законодательных норм, противоречащих всей правовой системе, действующей в данном обществе; приме- нение действующего закона в целях, противоречащих духу самой правовой нормы и задачам её принятия.
Бесспорно, что такое деление достаточно условно. В зависимости от цели изучения отдельных элементов предмета анализа, соответственно, можно произвести и более подробную классификацию за ко но да те лей , исполнителей и самих способов.
Рассмотрим на примерах несколько видов манипуляций с применением законодательства.
Показательным примером манипуляции посредством законодательства на уровне государства в отношении фактически всего населения страны может служить ситуация, связанная с проведением в начале 90-х годов приватизации и переходом к новым — рыночным отношениям. Тогда заявлялось, что цель этой кампании — справедливое распределение общественной собственности между гражданами. Но если о защите «справедливости» со стороны государства многие знают, то об истинной цели приватизации недавно поведал один из идейных и организационных её руководителей — А. чубайс, заявивший в одном из интервью, что задачей приватизации на самом деле было не спасение экономики, а уничтожение коммунизма [13]. здесь применён способ явного сокрытия цели принимаемых законов.
Не о чём-то другом, а именно о манипуляции на уровне государства с помощью законов, но в сфере предпринимательства говорит в своей книге «По ту сторону бизнеса» лорд Браун Мэдингли, отмечающий, что в целях изменения условий контракта по проекту «Сахалин-2» против компании Shell в своё время российской стороной были избирательно применены природоохранные законы [15], что повлекло исключение указанной компании из претендентов на реализацию дорогостоящих проектов.
Достаточно часто встречаются случаи манипулирования с помощью законов на уровне законодателей субъектов федерации и ниже.
Примером подобного является добросовестная на первый взгляд сделка по приобретению компанией «Сетуньской», совладелицей которой была на то время Е. Батурина, 16,4 га земель на пересечении Минской и Староволынской улиц столицы. Этот участок, зарезервированный указом президента РФ от 1993 года в пользу МИД РФ и предназначенный для строительства посольств ряда стран (Индии, Кубы, КНР), путём ряда операций и на основании законодательных актов, подписанных ю. Лужковым, перешёл в собственность указанной компании. И только усилиями нынешнего градоначальника Москвы Сергея Собянина эти акты были отменены и начался судебный процесс по возврату имущества.
Вероятно, исходя из сложившейся практики государственных органов, не стесняются манипулировать для достижения своих интересов и руководители отдельных организаций.
Самым простым, наиболее топорным и частым в применении является способ, когда тот или иной акт создаётся манипулятором постфактум под конкретный случай, или «переписывается» вместо ранее существовавшего. Так, например, в организациях бывает не редкостью, когда для выведения работника из равновесия или просто в целях избавления от него создаются какие-то новые локальные акты с функциональными обязанностями, которых раньше не было, или «возникает» приказ об увольнении работника задним числом.
Для участия же в рассматриваемом явлении исполнителей характерен другой подход, вид манипуляции, заключающийся в том, что в этом случае манипулятивный эффект операции с законом придаёт не столько само содержание нормативно-правового акта, а технология его использования.
Достаточно часто исполнители (юристы, управляющие, чиновники и т.д.) по заданию заказчиков используют различные манипулятивные приёмы, позволяющие решать корыстные цели. Примером этому может служить одна из кампаний по перераспределению собственности, запущенная «на полную мощность» после принятия законодателями очередной редакции закона «О банкротстве» 1998 года. Основывалась она на широком применении нечестных (заказных) банкротств. Суть процедуры манипуляций тех лет заключалась в том, что заинтересованное лицо (заказчик) через судейских чиновников и юристов добивалось в суде признания того или иного предприятия-должника банкротом. А после назначения «своего» арбитражного управляющего последний окончательно «выжимал» из предприятия остатки ресурсов или «переводил» их в нужном направлении.
Повсеместно и фактически безнаказанно манипулируют в России с законодательством такие исполнители , как рекламисты. Так, используя расплывчатость формулировок закона о рекламе, многие редакции без всяких последствий публикуют рекламные, по сути, статьи рекламодателей-заказчиков под видом редакционных материалов, беря за это деньги и уходя от необходимости оплаты налогов [14].
Рассматривая изложенные выше процес- сы, автор полностью разделяет точку зрения Г. В. Грачёва [3, с. 106—114] относительно того, что фетишизация рыночных отношений и конкуренции, отягощённых естественным для эпохи перехода к свободному рынку кризисом, неизбежно приводит современное российское общество к массовому применению технологий манипулирования. Справедливости ради отметим, что манипуляция законодательством не ноу-хау российского производства и достаточно распространена за рубежом.
В заключение отметим, что законодательство как культурная форма не только может, но и достаточно успешно используется в качестве манипулятивного средства на всех уровнях культурной жизни общества: от государства до организаций и частных лиц. Манипуляция с участием законодательства действует не столько на основе духовного, психологического давления, а скорее с помощью «технологического», информационно-авторитарного использования. При этом воздействие осуществляется как за счёт включённого в закон манипулятивного потенциала, так и путём изощрённых технологий применения.
Список литературы Манипуляция с помощью законодательства как дисфункция культурной формы права
- Абрамов А.И. Понятие функции права//Журнал российского права. 2006. № 2, февраль.
- Бехтерев В.М. Роль внушения в общественной жизни [Электронный ресурс]//НиТ. Научные журналы. URL: http://n-t.ru/nj/pr/vs.htm/(дата обращения: 04.02.14).
- Грачёв Г.В. Психология манипуляций в условиях политического кризиса//ОНС: Общественные науки и современность. 2007. № 4.
- Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. Москва, 2006.
- Макиавелли Н. Государь. Москва, 2009.
- Платон. Сочинения: в 3 т. Москва, 1972. Т. 3.
- Покровский H.Е. Одиннадцать заповедей функционализма Р. Мертона//Социологические исследования. 1992. № 2.
- Торопов А.А. Восстановительная функция права: автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. юрид. наук/Торопов А.А. Нижний Новгород, 1998.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 томах. Москва, 1987. Т. 4.
- Философский словарь. Санкт-Петербург, 1911.
- Философский энциклопедический словарь. Москва, 1998.
- Хабермас Ю. Религия, право и политика. Политическая справедливость в мультикультурном мир-обществе//Полис. Политические исследования. 2010. № 2.
- Чубайс А.Б. Приватизация проводилась для уничтожения коммунизма [Электронный ресурс]. URL: http://www.politonline.ru/video/632.html. (дата обращения: 25.12.2013).
- Щепилова Г. Реклама, PR, пропаганда: коммуникация или манипуляция? [Электронный ресурс]//HP-Portal. Сообщество HP-Менеджеров. URL: http://www.hr-portal.ru/article/kommunikatsiya-ilimanipulyatsiya. (дата обращения: 20.05.2011).
- From The Times. Regardless of what Putin stands for, he is exceedingly competent [Electronic resource]. URL: http://business.timesonline.co.uk/tol/business/movers_and_shakers/article7015950.ece. (дата обращения: 10.12.2013)