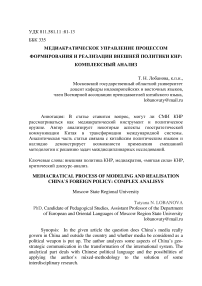Медиакратическое управление процессом формирования и реализации внешней политики КНР: комплексный анализ
Автор: Лобанова Татьяна Николаевна
Журнал: Медиа. Информация. Коммуникация @mic-iej
Рубрика: Теория медиа и медиаобразования
Статья в выпуске: 17, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье ставится вопрос, могут ли СМИ КНР рассматриваться как медиакратический инструмент и политическое оружие. Автор анализирует некоторые аспекты геостратегической коммуникации Китая в трансформации международной системы. Аналитическая часть статьи связана c китайским политическим языком и наглядно демонстрирует возможности применения смешанной методологии к решению задач междисциплинарных исследований.
Внешняя политика кнр, медиакратия,
Короткий адрес: https://sciup.org/147218280
IDR: 147218280 | УДК: 811.581.11
Текст обзорной статьи Медиакратическое управление процессом формирования и реализации внешней политики КНР: комплексный анализ
Сегодня становится очевидным, что китайский фактор – определяющий в системе международных отношений.
Актуальность темы определяется повышением интереса к медиаполитическим исследованиям, а также необходимостью оценки процессов вовлеченности Китая в процессы информатизации и глобализации c целью корректной интерпретации китайского фактора. Понимание этих механизмов даст возможность представить степень воздействия китайской медиасреды на общество «Срединного государства» изнутри, а во внешней политике – создать противодействие китайской информационной экспансии. Защита «телекоммуникационных сетей» в «информационной экономике», объектов критической информационной инфраструктуры – вопрос наивысшего приоритетаi.
Цель статьи: анализ явления медиакратии КНР как инструмента, конструирующего иерархические системы международных отношений современной КНР.
Классические работы теоретиков информационного общества: Ю. Хабермаса, Э. Тоффлера, К. Дойча, А. Турена, М. Маклюэна, М. Кастельса и др. ii констатируют факт: изменения, которые переживает современное мировое сообщество, существенным образом связаны с развитием коммуникационных и информационных технологий. Влияние информации в современном мире объясняется не только особой ролью знания в политических процессах, но и способностью управлять образами и символами, формирующими картину мира аудитории, в результате чего одни политические ценности доминируют над другими.
Язык СМИ – живая, динамичная и чувствительная субстанция, отражающая новые идеологические установки или общественнополитические преобразования. Современные информационные технологии и коммуникации позволяют специалистам использовать множество инструментов для информационно-коммуникационного взаимодействия с целевыми аудиториями, определять формат и специфику такого взаимодействияiii.
Мощная электронная медиасистема способна создавать глобальную виртуализацию информационного пространства. В результате предлагаемые этой медиасистемой «информационные образы объектов», персон и процессов теряют какую-либо связь c реальными объектами.
Появление новых китайских СМИ создает эффект многообразия источников информации и плюрализма мнений в Китае. Означает ли это «демократизацию журналистики»?
В условиях сращивания партийного и государственного аппарата в КНР все средства массовой информации, включая издания на иностранных языках, находятся под централизованным контролем, что является серьезным преимуществом в плане ведения внешнеполитической пропаганды.
СМИ, действующие в семантическом пространстве государства, зачастую прибегают к инструментарию «мягкой силы». В современном информационном обществе происходит быстрая деградация структур демократии. <…> СМИ превращают любую реальную проблему в модель и делают это не с целью познания, а с целью манипуляции сознанием. <…>. Мощное средство СМИ – редукционизм , сведение объекта к максимально простой системе. <…> тенденция к редукционизму должна рассматриваться как угроза миру и самой демократии. Она упрощает манипуляцию сознанием. Политические альтернативы формулируются на языке, заданном пропагандой»iv. Там, где присутствует манипуляционная составляющая в СМИ, речь идет не о демократии , а о новой форме организации общества и власти – медиакратии .
Анализ ряда работ по проблемам медиатизации властных процессов позволил вычленить ряд факторов, определяющих степень интеграции государства в глобальное информационное пространство и обусловливающих функционирование медиакратии.
Факторами глобализации и «стирания границ» зачастую становятся т.н. информационные войны и «новые войны» – открытые и скрытые целенаправленные информационные воздействия систем друг на друга c целью получения определенного выигрыша в материальной сфере v . В нашем случае речь идет о медийной составляющей таких войн, в задачи которой входят навязывание обществу нужных мнений, создание образов и мифов, корректировка событий виртуальными моделями, дискредитация политических лидеров и структур.
1-й фактор. Наличие национальной информационнокоммуникационной инфраструктуры и степень распространенности компьютерной и медиаграмотности . КНР – государство со специфической азиатской информационной моделью. Проект “金盾工程” (Великий Китайский Файервол) – информационная ограда, отрезавшая китайских потребителей интернет-контента от информации, вырабатывающейся на многих западных ресурсах. Вместе c тем, сегодня в Китае дискуссируется вопрос разрешения доступа к Facebook и другим ресурсам.
2-й фактор. Наличие единой концепции государственной информационной политики и национального информационного законодательства. Начиная с 2000-х гг. Китай в экстренном порядке сформировал единую и вместе с тем четко структурированную информационную политику со своей коммуникационной стратегией. Это позволило Китаю активно и целенаправленно проводить дифференцированные политики в международных отношениях.
3-й фактор. Роль Интернета и социальных сетей в международной коммуникации. Информационная революция в КНР набрала беспрецедентные обороты. Все ключевые аудитории получают информацию из Интернета и социальных сетей. Вопрос лежит в плоскости количественных показателей. Значительная часть мировой статистики, отражающей развитие информационных технологий, учитывает целый ряд индикаторов, который можно разделить на три группы: индикаторы, измеряющие степень использования информационных технологий в домохозяйствах, в бизнесе и системе образованияvi.
4-й фактор. Политическая культура. Инструменты мягкой силы, пропаганда: воздействие на знаково-символическом и идейно-ценностном уровнях.
Уровень идеологической пропаганды, определяющий информационно-содержательную доминанту информационных потоков и медиаповестку (уровень государства), связан c устойчивостью традиций политической культуры государства.
С. С. Бодрунова подчеркивает, что аудитория в медиаполитических исследованиях подразумевается как цель, но почти не исследуется на предмет вариативности. Единственный релевантный аспект -политическая культура. В медианауке не прослежена причинноследственная или иная связь между типом политической культуры и развитием медиасистемvii.
В Китае веками складывались конфуцианские традиции рационального управления. <…>. Основой социальной стабильности в Китае считается социальное неравенство, определяемое пятью главными типами взаимоотношений, перечисляемых в порядке убывания значимости: правитель — поданный, отец — сын, старший брат — младший брат, муж — жена, старший друг — младший другviii.
Маоистский Китай (как и сталинский СССР) был апофеозом медиакратии, когда вся пресса и все TV подчинялись жесткому управлению из Пекина (Кремля) и создавали такой информационный симулякр, которому могли позавидовать современные вожди. Во внешнеполитическом курсе четко прослеживалась «картографическая экспансия стран Юго-Восточной Азии», прикрываемая внешним лицемерным «дружелюбием» ix.
Языковой уровень информационно-психологического воздействия в совокупности c идеологическим, «виртуализируя» информационное пространство, предлагают «информационные образы объектов», персон и процессов теряют какую-либо связь c реальными объектами. Отдельные языковые явления с очевидностью объединяются в целостную картину идеологической пропаганды. Это привело к бурному развитию технологий информационно-пропагандистского и психологического воздействия, становлению институтов «мягкой силы», публичной дипломатии и пиара, развитию приемов информационных войн.
В любом обществе изменения социальные и политические влекут за собой изменения языковые. Власть устанавливает новые отношения между людьми и оформляет это языком. Язык политики влияет на язык в целом. Это обусловлено следующими факторами:
– процессом «информатизации» общества, в результате которого языковой массив, получаемый субъектом через СМИ, превалирует над всеми другими. Если раньше язык и речь в массе формировались в значительной степени художественной литературой, то сегодня на первый план выступает язык печатных и электронных СМИ, который пока еще недостаточно изучен;
– возросшим интересом широких масс к вопросам внутренней и внешней политики в связи со значительными изменениями в мире в конце XX – начале XXI вв.;
– постоянным совершенствованием приемов речевого воздействия на эмоционально-оценочное восприятие субъектом политической действительности x . Все это предопределяет повышенный интерес к изучению функционирования китайского языка в сфере массмедиа и политической коммуникации. Это дает исследователям шанс на поиск нового методологического импульса, позволяющего сквозь призму языка «предугадывать» (в научном, а не псевдонаучном плане) практическое развитие современных политических процессов.
Вместе c тем, непривлекательность китайского диктаторского коммунистического режима и другие сопутствующие явления: закрытие откровенных СМИ, жёсткий цензорат, расправа c оппозицией, ограничение доступа к т.н. «вредным» сайтам или информации привели к тому, что воздействие «мягкой силой» в Китае имеет ограниченный успех. Так, современный Китай по 13 параметрам номенклатуры индексов мягкой силы оказался на 20-м месте c индексом 3,74xi.
5-й фактор. Технологичность СМИ и инфраструктура коммуникационных связей. Пример дискурс-борьбы Пекина – неконфронтационная методика информационно-пропагандисткой работы c зарубежной аудиторией (Международное радио Китая)xii. Технологичность СМИ, в том числе реализуется через манипулятивность и проявляется в трех направлениях:
-
1) Развитие технических средств связи постоянно расширяет как общий объем текстопроизводства в сфере массовой коммуникации, так и совокупный объем повседневного речепользования. Особая роль в этом процессе несомненно принадлежит непрерывному текстообмену в виртуальном пространстве: Интернет версии традиционных СМИ,
онлайновые медиа, блоги, социальные сети тысячекратно увеличивают количество ежечасно производимых текстов.
Для описания нового типа мультимедийных текстов, органично сочетающих черты традиционных средств массовой информации с возможностями новейших информационных технологий, включая различные виды мобильной телефонии, используется специальный термин в российской лингвистической традиции – «конвергентные тексты » xiii или медиатексты как «инструменты формирования дискурса»xiv.
-
2) на уровне сетевых и компьютерных технологий, а также при обмене информацией в сфере интернет-технологий. Ученые в области военных наук отмечают рост «кибертерроризма», т.е. воздействия на компьютерные сети c целью дезорганизовать функционирование важнейших жизнеобеспечивающих систем государства и общества.
-
3) уровень тренд кастомизации новостей: потребитель информации в Интернет пользуется излюбленными каналами, будь то социальные сети или агрегаторы новостей.
Традиционные СМИ в Китае, как правило, регулируются властями, поддерживают официальную идеологию и реализуют поставленные правительством задачи, новые медиа для Китая – не просто коммуникационные каналы. Новые медиа опережают традиционные СМИ по таким критериям, как воздействие на аудиторию, интерактивность, интертекстуальность, языковое манипулирование, технологии дискредитации и создание образов и мифов.
Китай в системе международных отношений в начале XXI века: российские ученые и эксперты
Следует отметить, что российскую исследовательскую традицию в вопросах международного сотрудничества Китая и ряде вопросов международных отношений характеризует некоторое запаздывание, вызванное рядом причин, так или иначе связанных с отсутствием на территории России соответствующей литературы, документов, качественного перевода новейших источников информации по теме, а также «пророссийская интерпретация событий».
Широкому кругу проблем международного сотрудничества КНР, политологического осмысления процессов внешнеполитической деятельности Китая, вопросов обеспечения национальной безопасности и стратегического планирования, а также международных организаций (БРИКС, ШОС) посвящены труды российских ученых: А. Д. Воскресенского, У. И. Берзини, М. Л. Титаренко, А. В. Лукина, А. П. Девятова, А. М. Байочорова, С. Г. Лузянина, А. Н. Алексахина,
-
В. Я . Портякова , Ю. М. Галеновича, Д. В. Кузнецова, Н. В. Кухаренко, С. В. Кухаренко, Д. В. Кузнецова, Я. М. Бергера, К. С. Ануфриеваxv.
Внешнеполитические и внешнеэкономические приоритеты КНР рассматриваются учеными в трех плоскостях: во взаимоотношениях со странами-соседями; в Азиатско-тихоокеанском регионе; в рамках осуществления глобальной политикиxvi. В своей внешней политике Китай стремится решить несколько задач: создать мирную международную среду, в которой он сможет продолжать свое экономическое развитие и в которой можно представить себя в качестве ответственного и конструктивного игрока; обеспечить ресурсы, необходимые для поддержания своего экономического развития; создать международные политические альянсы, которые разделяют отрицательную китайскую позицию к внешнему вмешательству во внутренние дела других государств; убедить других, что он является великой державой, возможно, способной стать вровень с США, и воссоединить материковый Китай с Тайванем по апробированной в Гонконге и Макао модели.
Китаизация преподносится всему миру под эгидой альтернативы однополярному миру: союзники КНР определились, главным образом, из объединения БРИКС. В этих условиях США воспринимает КНР как своего главного антагониста в Азиатско-Тихоокеанском регионе и предпринимает политику «сдерживания через интеграцию» xvii . Проблематика китайско-американских, равно как и тематика китайско-российских отношений, подходы Китая к актуальным международным проблемам серьезно интересуют общественность и СМИ КНР.
Фундаментальное изучение в России китайского фактора в глобальном и региональном аспектах, особенно за последние годы, дает возможность исследователям рассмотреть ряд новых тенденций, связанных с Китаем. Новые стратегические подходы КНР: 1) постепенный переход от пассивной линии поведения к активной внешней политике, призванной превратить Китай в реального участника глобальных трансформаций, военной политики и энергетической безопасности; 2) переход от политики приоритетности двусторонних отношений к многосторонней дипломатии; 3) активная защита за рубежом интересов Китая, китайского бизнеса и китайских граждан; 4) увеличение роли общественной дипломатии Китая (например, через сеть институтов Конфуция)xviii.
Итак, концепция внешнеполитического курса и элементы «новой» идеологии КНР сводится к следующим пунктам:
-
1. Китай никогда не навязывает другим свой социальный порядок и не позволяет другим навязывать свой порядок Китаю, а также он выступает против гегемонизма во всем мире.
-
2. Китай всегда придерживается независимых и самостоятельных принципов: он вырабатывает свой политический курс по международным
-
3. Исторически Китай всегда и все принижали: Британия, Франция, Россия, Япония (особенно в XX в.), затем СССР и США; отбирали территории, грабили богатства, навязывали неравноправные договоры, не считаясь c его интересами. Китай же, даже в имперское время, был мирной державой, никого не захватывал. Китай – это государство c устойчивой политической культурой, тысячелетней историей и незыблемыми традициями, что обуславливает наличие коренных интересов Китая, которыми он не может поступиться и предопределяет решение любых территориальных споров в сторону Китая.
-
4. Коренные интересы Китая: присоединение Тибета и Тайваня по модели Гонконга и Макао и признание их частью КНР. Так, геостратегия США и Китая противоречат друг другу по «перезревшему» тайваньскому вопросу и далее по островам в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Однако Китай и Россию сближает общая озабоченность планами США экспортировать под флагом демократии технологии «цветных революций»: «для Китая на первом месте сейчас стоят задачи борьбы с «исламским» экстремизмом, несущим угрозу стабильности и территориальной целостности Северо-Западного Китая»xx.
-
5. Переход к активной роли КНР в мировой политике. Обострение противоречий в «двойке» КНР-США.
-
6. Основными спорными территориями, «горячими точками» во внешнеполитической сфере остаются: спор с Японией вокруг островов Дяоюйдао; острова Спратли в Южно-Китайском море. Решение этих проблем – вопрос национальной гордости и территориальной целостности.
-
7. Китай желает создавать мирное сотрудничество со всеми странами на основе пяти принципов мирного сосуществованияxxii.
-
8. Гипотетическое присоединение Китая к проекту ТТП (Транстихоокеанское партнерство) по схеме ТТП+КНР.
-
9. Содержание и направленность военно-политического курса КНР обусловлены приоритетами внешней политики КНР, обеспечением безопасности в условиях глобализации, обеспечением безопасности в Юго-
- Восточной Азии, экономической и публичной дипломатией, а также спецификой информационно-пропагандистской работы КНР.
-
10. В Белой книге 2015 г. «Военная стратегия Китая» содержится ряд новых положений и акцентов: констатируется повышение международного положения и влияния Китая, расширение стратегических интересов Китая, необходимость перехвата китайскими вооруженными силами стратегической инициативы в военном соперничестве; усиление вооруженных сил Китая называется составной частью китайской мечты о национальном возрождении китайской нацииxxiii.
вопросам; не подчиняется внешнему давлению, не устанавливает союзнических отношений c крупными державами или блоками стран; не участвует в гонке вооруженийxix.
«Новое обострение началось с официального объявления Вашингтона о планах продать Тайваню значительную партию оружия на сумму 6,4 млрд долларов.
Не удовлетворены Соединенные Штаты и его позицией по ряду региональных проблем, в частности по северокорейской ядерной программе. В Вашингтоне считают, что Пекин недостаточно активен в оказании давления на Пхеньян. То же касается и иранского вопроса, по которому Китай вместе с Россией проводит линию на смягчение санкций, предлагаемых Западом»xxi.
Характер оценок, вербальные приемы аргументации и метафоризации в китайских медиа
Методологический инструментарий, качественно и количественно «отслеживающий» эффективность медиакратического управления процессами формирования внешней и внутренней политикой КНР, позволяет доказать связь языкового уровня c идеологическим. Вычлененная проблематика публикаций (проблемы т.н. “地缘冲突带” – «Пояса геополитического конфликта») по тем или иным параметрам затрагивает китайско-американские интересы и отражает противоречияxxiv:
-
1 . 南海冲突 . Конфликт в Южно-Китайском море;
-
2. 对台湾军售 . Поставка оружия Тайваню;
-
3. 叙利亚危机与 “伊斯兰国” . Сирийский кризис и ИГИЛ;
Рассмотрим функционирование китайского политического медиадискурса на примере реализации стратегии дискредитации. Исследовательская парадигма обусловливает терминологическое разграничение понятия «дискредитация». Дискредитацию можно рассматривать и как прием в информационной войне и как дискурсивную стратегию и как прием речевого воздействия (текст и его визуальная составляющая). В любом случае манипуляция при дискредитации выступает инвариантом. Критический дискурс-анализ на предмет выявления стратегий дискредитаций – инструмент для прикладного внешнеполитического анализа. В целом, успех речевого воздействия обеспечивается набором тактик, а эффективное применение тактик зависит от выбора их языкового (речевого) воплощения.
При анализе языкового материала исходим из того, что стратегия представляет собой планирование в самом обобщенном виде. В политической коммуникации выбор стратегии зависит от цели субъекта коммуникации. Важным фактом является контекстуальная ситуация.
Исследователи подчеркивают, что «специфика собственно языковых механизмов дискредитации обусловлена двумя составляющими: с одной стороны, особенностями протекания коммуникативного речевого акта в медиасфере, а с другой, – структурно-логической и языковой организацией медиатекста, вытекающей из его стилеобразующих признаков».xxv На макроуровне дискредитирующими выступают стратегии и технологии формирования медиаконтента и управление медиатопиками (выбор медиатопика).
В связи с этим, выборка материалов медиатекстов за 2013-2016 гг. позволила объединить группы медиатекстов в соответствии с заданной тематикой и проанализировать, как разворачивается стратегия дискредитации в зависимости от ее объекта.
Обратимся к примерам анализа.
E.g. “ Й^^^ЖЖ^^^В#Ж^^ЖШ^^^^ЖХ^ “ЖЖ ”; 法国、比利时等国最近多起恐怖袭击的参与者均曾因小罪入狱,很可能是 在狱中接受了极端思想“洗脑”。按照比利时官员的设想,“把极端分子 ^хеи^^^^ж^, МЖЖЖ ‘Ж^’ ” о xxvi[ В настоящее время тюрьмы Бельгии превратились в «рассадники» терроризма; возможно, террористы, устроившие взрывы в Бельгии и Франции, «заразились» этими идеями именно во время пребывания в тюрьме. В связи с этим, правительство Бельгии предпринимает следующие меры: держать террористов в отдельных камерах, чтобы не допустить «заражения» других заключенных ]. В данном отрывке описываются последствия террористических актов, совершенных группировкой ИГИЛ во Франции и Бельгии в 2016 г., а также настроения, витающие в мировом сообществе. В статье использованы метафоры ^^ЖХ^ “ЖЖ” , “Ж Ж” , ^^ЖЖЖ ‘^^’ , передающие негативное отношение автора к терроризму: он сравнивается с вирусом, которым заражается все большее количество людей.
E.g. “叙利亚陆军方面强调,重夺帕尔米拉显示政府军及他们的盟 友,是唯一可以打击及铲除恐怖主义的力量。叙利亚文化部长哈利勒赞扬 重夺帕尔米拉是“人类的胜利,打击了所有黑暗罪行”。 xxvii [ Глава сирийской сухопутной армии подчеркивает, что возвращение Пальмиры под контроль правительства Сирии – это важный шаг на пути к «выкорчевыванию» терроризма. Министр культуры Сирии Исам Халиль также дал высокую оценку действиям сирийской армии по возвращению Пальмиры: «Это победа всего человечества, благодаря которой мы подавили мрак на территории Сирии» ]. В данной статье говорится о возвращении Пальмиры под контроль правительства Сирии, которая ранее была завоевана группировкой ИГИЛ. Благодаря употребленным метафорам и цитированиям из выступлений представителей сирийского правительства, читатель понимает, что автор статьи также поддерживает военные действия армии в этом направлении. Например, метафора «подавить мрак на территории Сирии» переосмысляется как полная расправа над группировкой ИГИЛ.
В китайской медиасфере присутствуют ироничные статьи и комментарии в адрес США по вопросу возвращения США в АТР.
E.g. “ 英媒:美国重返亚太战略 “ 正在沉没 ”.xxviii [ Стратегия возвращения США в АТР в настоящий момент тянет страну ко дну ]. В статье описываются размышления западных СМИ на тему возвращения США в АТР и того, к каким результатам это может привести. “ 美国重返亚 太首先将会联手哪个国家?又会剑指哪个国家 ” [ США, возвращаясь в АТР, c какой из стран смогут начать сотрудничество, или нацелены на какую страну? ], из которой видно, что и сам автор статьи старается понять истинные мотивы США.
E.g. “ 人民日报:美国的重返亚太 “ 乱象痴迷征 ”xxix. [ Причина возвращения США в АТР – «синдром заблудившегося слона» ]. С целью привлечения внимания читателей, автор поместил в название такой стилистический прием, как сравнение: причиной возвращения США в АТР является «синдром заблудившегося слона». Автор сравнивает США со «слоном» – шахматной фигурой: каждой шахматной фигурой можно «ходить» одним определенным способом (по диагонали, через клетку и т.д.). Таким образом, автор ставит под сомнение правильность новой стратегии США.
***
Проблематика исследования настолько актуальна в настоящее время, что 2015-2016 гг. объявлены перекрестным Годами обменов между китайскими и российскими СМИ, а 2017-2018 гг. планируется провести взаимные «года информационных, сетевых и компьютерных технологий» ( название обсуждается )xxx.
Формирование китайского имиджа подчинено основному принципу «мягкой силы» – «гармонии мира»: в официальной внешнеполитической стратегии «гармоничного мира» содержатся конкретные имиджевые положения.
Так, методология КДА позволяет определить, что медиаповесткой медиа в сфере внешней политики в 2014-2015 гг. выступали проблемы взаимодействия Китая, США, Японии или Германии; в 2015-2016 гг. произошло смещение в акцентах медиаповестки в сторону вопросов, касающихся создания многосторонних финансовых институтов: АБИИ, Фонда Шелкового пути, китайских инициатив «Один пояс, один путь» и т.д.
КДА как метод КДИ в совокупности c методиками контент-анализа составляют основу исследования возможностей медиакратического управления в КНР.
Стратегическая коммуникация Китая способствует формированию виртуальной медиа-картины мира (дискурсивные стратегии в медийном пространстве, вбирающие в себя средства визуализации и невербальную метафору). В настоящее время как никогда перспективно наблюдение за медийными образами внешнеполитических субъектов с позиции китайского политического медиадискурса в динамической синхронии за счет многократных выходов на один и тот же ресурс с фиксацией изменений содержания, уровня метафоризации, частоты встречаемости ряда лингвистических явлений, статистики скачиваний с целью внешнеполитического анализа и прогнозов.
Медиакратический политический режим КНР одновременно серьезно зависит от медийного элемента и способен интегрировать массовую коммуникацию в качестве стратегического элемента в политическую борьбу. Это не означает, что в КНР перестал существовать цензорат. Это свидетельство того, что китайская пропагандистская машина вызрела и характеризуется квалифицированностью и достаточной технической оснащенностью. И этот информационно-пропагандистский аппарат выдерживает конкуренцию с иностранной пропагандой по многим избранным направлениям информационного противоборства.
Список литературы Медиакратическое управление процессом формирования и реализации внешней политики КНР: комплексный анализ
- Российско-китайский диалог: модель 2016: доклад № 25/2016 / С.Г. Лузянин и др.; Х. Чжао; Российский совет по международным делам (РСМД). М.: НПРСМД, 2016. С. 30.
- Castells M. Mobile Communication and Society, 2011; Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура: ГУ ВШЭ, 2000; Турен А. От обмена к коммуникации: рождение программированного общества // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986. С. 410-430; Тоффлер Э. Шок будущего. М.: АСТ, 2004; Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего = The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. 2-е изд. М.: Академический Проект, 2013; Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: «Весь Мир», 2003; Дойч К. Нервы управления: модели политической коммуникации и контроля = The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control, 1963; Etzioni A. Next: The Road to the Good Society, 2001; Huntington S.P. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. University of Oklahoma Press, 2003.
- Абрамов В.Г. СМИ как инструмент информационно-коммуникационного воздействия на общественное сознание (вопросы теории). http://mic.org.ru/8-nomer-2014/293-smi-kak-instrument-informatsionno-kommunikatsionnogo-vozdejstviya-na-obshchestvennoe-soznanie-voprosy-teorii (Дата обращения: 04.09.2014).
- Кара-Мурза С. «Медиакратия», «теледемократия» и пр.: типичные ошибки в представлениях о СМИ. http://centero.ru/digest/mediakratiya-teledemokratiya-i-pr-tipichnye-oshibki-v-predstavleniyakh-o-smi (Дата обращения 18.09.2015).
- Вирен Г. Современные медиа: приемы информационных войн. М.: Аспект Пресс, 2013. С. 6.
- Информационное общество и международные отношения /Р. В. Болгов, Н. А. Васильева, С. М. Виноградова, К. А. Панцерев. С.-Петерб. гос. ун-т. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. С. 151.
- Бодрунова С. С. Медиакратия: СМИ и власть в современных демократических обществах: Дисс. … докт. полит. наук, Санкт-Петербург, 2015. Том 1. 498 с.
- Политическая культура: учеб. пособие / под ред. Г. Л. Тульчинского. М.: Изд-во Юрайт, 2015. С. 49.
- Территориальные притязания Пекина: современность и история. М. Политиздат, 1979. 255 с.
- Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста: теоретические основания и практика : учеб. пособие. 3-е изд. М. : Флинта : Наука , 2011. С.174-178.
- Soft Power: теория, ресурсы, дискурс /под ред. О. Ф. Русаковой. Екатеринбург: Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2015. С. 52.
- Примеч. Международное радио Китая («China Radio International») создано в 1947 году в качестве отдела иновещания радиостанции «Синьхуа», позднее трансформировалось в самостоятельную медиа-структуру. Ежедневное количество посещений сайта «CRI ONLINE» составляет более 13 млн.
- Добросклонская Т. Г. Методология анализа медиатекстов в условиях конвергентных СМИ // Развитие русскоязычного медиапространства: коммуникационные и этические проблемы. Материалы научно-практической конференции (26-27 апреля 2013 г.). М., 2013. С. 18-27.
- Корф О. В. Медиатекст как инструмент формирования дискурса в политическом конфликте : на примере конфликта 1994-1996 гг. в Чеченской Республике: автореф. дисс. … канд. полит. наук. М., 2009. 22 с.
- Титаренко М. Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. М.:ИД «ФОРУМ», 2012; Он же. Геополитическое значение Дальнего Востока. Россия, Китая и другие страны Азии. М.: Памятники исторической мысли, 2008; Портяков В. Я. О некоторых особенностях внешней политики Китая в 2009–2011 гг. // Проблемы Дальнего Востока. 2012. № 2. С. 27–42; Он же. Становление Китая как ответственной глобальной державы. М.: ИДВ РАН, 2013; Воскресенский А. Д., Лузянин С. Г. Политика Китая в Центральной Азии // Южный фланг СНГ. Центральная Азия — Каспий — Кавказ: возможности и вызовы для России / отв. ред. М. М. Наринский, А. В. Мальгин. М.: Логос, 2003. С. 301–335; Лузянин С. Г. Шанхайская организация сотрудничества 2013–2015. Прогнозы, сценарии и возможности развития М.: ИДВ РАН, 2013; Берзиня У. И. К вопросу о политическом диалоге ЕС с Китаем: на примере перевода двух китайских фраз европейским экспертом // Общество и государство в Китае / редколл.: А. И. Кобзев и др. М.: Институт востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН), 2013. Т. XLIII. Ч. 2. С. 398–403; Бергер Я. М. Экономическая стратегия Китая. М.: ИД «ФОРУМ», 2009; Ануфриев К. С. Политика России и Китая в Центральной Азии: опыт сравнительно-исторического анализа. Томск: Издательство Томского университета, 2011; Байчоров А. М. Китаизация: последствия роста мощи Китая для мира в XXI веке. М.: Международные отношения, 2013; Девятов А. П. Практическое китаеведение. Базовый учебник. М.: Восточная книга, 2007; Галенович Ю. М. Китайские сюжеты: Чем доволен и недоволен Китай. М.: Восточная книга, 2010; Современный Китай: Социально-экономическое развитие, национальная политика, этнопсихология / отв. ред. Д. В. Буяров. М.: УРСС, 2011.
- Байчоров А. М. Китаизация: последствия роста мощи Китая для мира в XXI веке. М., 2013. С. 100.
- Крупянко М. И. Восточная Азия после «холодной войны»: зона конфронтации или сотрудничества? М., 2006. С. 135.
- Ежегодник ИМИ – 2015. Вып. 4 (14). Мировая политика: старые проблемы и новые вызовы / Гл. ред. А. А. Орлов, ред. выпуска: А. Д. Дикарев, А. В. Лукин. – Москва: ИМИ МГИМО, 2015. Вып. 4 (14). 173.
- Независимая и самостоятельная мирная внешняя политика Китая. http://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/wjzc/jbzc/t1992.htm (Дата обращения: 05.09.2016).
- Титаренко М. Л. Россия и ее азиатские партнеры в глобализирующемся мире. Стратегическое сотрудничество: проблемы и перспективы. М., 2012. С. 407.
- Лукин. А. В. «Китайская мечта» и будущее России. Внешняя политика Пекина – новый поворот? http://www.globalaffairs.ru/number/Kitaiskaya-mechta-i-buduschee-Rossii-14857 (Дата обращения: 05.07.2016).
- Независимая и самостоятельная мирная внешняя политика Китая. http://www.fmprc.gov.cn/rus/wjdt/wjzc/jbzc/t1992.htm (Дата обращения: 05.09.2016).
- Лексютина Я. Первая Белая книга Китая по военной стратегии: новые акценты? http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1433574180 (Дата обращения 30.08.2016).
- 破解中东乱象/刘宝菜主编.北京:世界知识出版社,2015.5.256页; 国际关系退化机制与国际程序重构 [An analysis of regression of The International Relations and The Remaking of International Order]:谢剑南著. 北京:时事出版社,2014. 1. 115-143 页.
- Чернышова Т. В. Языковые механизмы дискредитации в медиатексте (по материалам лингвоэкспертной практики) // Развитие русскоязычного медиапространства: коммуникационные и этические проблемы. Материалы научно-практической конференции. М, 2014. С. 293.