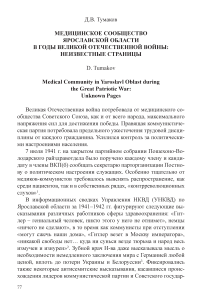Медицинское сообщество Ярославской области в годы Великой Отечественной войны: неизвестные страницы
Автор: Тумаков Денис Васильевич
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 41, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье на основании ранее неизвестных документов ярославских архивов рассматриваются некоторые стороны жизни и работы медицинского сообщества Ярославской области во время Великой Отечественной войны. Главное внимание уделено политическим настроениям и преступным действиям, которые в прошлом практически не изучались историками. Прежде всего, анализируются «антисоветские проявления», дела о которых расследовали ярославские органы госбезопасности. Также рассматриваются нарушения трудовой дисциплины, должностные и уголовные преступления, совершенные ярославскими медиками. Подробно освещаются пособничество членовредительству красноармейцев и рабочих, превышение полномочий, злоупотребления, нечуткое отношение к больным. Анализ архивно-следственных дел позволяет сделать вывод, что органы госбезопасности фактически сфальсифицировали многие дела об «антисоветской деятельности» ярославских медиков. С другой стороны, нарушения служебной дисциплины и преступления ярославских медиков стали закономерным следствием тяжелых материальных и моральных условий военного времени.
Великая отечественная война, ярославская область, здравоохранение, медицинское сообщество, политические настроения, преступность, органы государственной безопасности
Короткий адрес: https://sciup.org/14913703
IDR: 14913703
Текст научной статьи Медицинское сообщество Ярославской области в годы Великой Отечественной войны: неизвестные страницы
Великая Отечественная война потребовала от медицинского сообщества Советского Союза, как и от всего народа, максимального напряжения сил для достижения победы. Правящая коммунистическая партия потребовала предельного ужесточения трудовой дисциплины от каждого гражданина. Усилился контроль за политическими настроениями населения.
7 июля 1941 г. на закрытом партийном собрании Пошехоно-Во-лодарского райздравотдела было поручено каждому члену и кандидату в члены ВКП(б) сообщать секретарю парторганизации Постнову о политическом настроении служащих. Особенно тщательно от медиков-коммунистов требовалось выяснять распространение, как среди пациентов, так и в собственных рядах, «контрреволюционных слухов»1.
В информационных сводках Управления НКВД (УНКВД) по Ярославской области за 1941–1942 гг. фигурируют следующие высказывания различных работников сферы здравоохранения: «Гитлер – гениальный человек, никто этого у него не отнимет», немцы «ничего не сделают», в то время как коммунисты при отступлении «могут сжечь наши дома», «Гитлер везет в Москву императора», «никакой свободы нет… куда ни сунься везде тюрьма и народ весь измучен и изнурен»2. Зубной врач Н-ва даже высказывала мысль о необходимости немедленного заключения мира с Германией любой ценой, вплоть до потери Украины и Белоруссии3. Фиксировались также некоторые антисемитские высказывания, касавшиеся происхождения лидеров коммунистической партии и Советского государ- ства. Особняком стояло высказывание врача ярославской больницы имени Н.А. Семашко Н-н, который в беседе о положении на фронтах предположил, что «весной нужно ожидать голода и всевозможных эпидемических заболеваний»4.
Вышеприведенные фразы звучали в начальный период войны, а ближе к ее середине ярославские органы государственной безопасности уже смело докладывали наверх о поимке целых групп «медиков-вредителей». В отчете от 20 мая 1943 г., за подписями начальника УНКВД по Ярославской области полковника госбезопасности В.В. Губина и начальника Управления НКГБ (УНКГБ) по Ярославской области полковника госбезопасности Н.Ф. Кримяна, были упомянуты три подобные группы. По утверждению ярославских сотрудников госбезопасности, еще в начале 1941 г., накануне войны, в Костроме была сформирована «антисоветская диверсионная группа» из 7 человек. Ее образовали люди, ранее судившиеся за антисоветскую деятельность или имевшие «опасное» с точки зрения властей политическое прошлое или социальное происхождение, – бывшие троцкисты, а также дворяне по происхождению. Среди членов «группы» находилась врач Костромского бактериологического института К-ва, чья цель якобы заключалась в «организации бактериологической диверсии путем отравления источников питьевой воды острозаразными бактериями». Вплоть до ликвидации «группы» 29 июня 1941 г., по утверждению ярославских сотрудников госбезопасности, ее члены вели широкую агитацию против Советской власти и выпускали некие листовки пораженческого характера5.
Основателем другой «шпионско-повстанческой группы» в Ярославле стал инструктор физкультуры спортивного общества «Медик», бывший пленный офицер германской армии времен Первой мировой войны и бывший член ВКП(б) Э. К. Т-н. Органы госбезопасности полагали, что данная «группа» по заданию сотрудников посольства Германии в июле 1941 г. начала «работу по подготовке и организации открытого выступления против Советской власти, в момент приближения фронта к Ярославлю, с целью облегчить взятие города немецкими войсками»6. В силу этого заговорщики весной и в начале лета 1941 г. якобы начали подбирать антисоветские кадры для организации «расправы над коммунистами, для чего учитывали партийно-советский актив… и намеревались наладить через линию фронта нелегальную связь с командованием германской армии с це- лью информации последнего о частях Красной Армии, вооружении, об оборонительных сооружениях». Здесь речь фактически шла о подготовке вооруженного выступления против Советской власти по образцу июльских событий 1918 г.
Среди членов упомянутой «группы» оказался бывший австровенгерский военнопленный, известный ярославский врач, заведующий Центральной зубной поликлиникой Ю.М. К-о. В 1930 г. он уже был арестован органами ОГПУ за незаконное хранение оружия7. Стандартным пунктом обвинения против участников «группы» стало распространение ими панических слухов среди горожан, которые УНКВД квалифицировало как ведение «активной фашистской и пораженческой агитации». Очевидно, именно эту деятельность, также очень опасную в военное время, особенно для прифронтового региона, каким была осенью 1941 г. Ярославская область, органы госбезопасности и сочли поводом для обвинений в подготовке антисоветского вооруженного восстания. Никаких других подробностей документ не сообщает, однако тяжело представить, что бывшие военнопленные, немолодые люди, давно находившиеся на учете в НКВД, могли контактировать с германским посольством и пытаться организовать мятеж в центральных регионах страны.
Похожие обвинения осенью 1943 г. были предъявлены бывшему коменданту эвакогоспиталя № 1780 в Ярославле, позднее завхозу Белорусского медицинского института С. и медсестре того же госпиталя К. Поводом для возбуждения против них уголовного дела стали резкие антисоветские высказывания типа «в Советском Союзе жить нельзя, кругом шпионаж и преследования за политические убеждения. Здесь с людьми совершенно не считаются». В докладной записке «Об итогах агентурно-оперативной и следственной работы за сентябрь месяц 1943 г.» начальник УНКГБ по Ярославской области полковник госбезопасности Кримян сообщал заместителю наркома госбезопасности СССР комиссару госбезопасности 2-го ранга Б.З. Кобулову, что С. и К. пытались из пациентов «создать… повстанческую организацию для выступления против Советской власти в момент предполагаемого ими политического обострения в стране в связи с войной», а также выражали «террористические намерения по адресу руководителей партии и Советской власти»8. Непонятно, какое обострение внутриполитической обстановки в Советском Союзе предполагали упомянутые работники эвакогоспиталя в сентя- бре 1943 г., когда после победы в битве на Курской дуге Красная армия окончательно перехватила стратегическую инициативу в войне и, пусть и с разной степенью успеха, развивала наступление на ряде фронтов.
Сотрудники ярославских органов госбезопасности явно противоречили сами себе. С одной стороны, члены «антисоветской террористической группы» обвинялись в ведении профашистской агитации в госпитале. С другой, как сообщал сам Кримян в упомянутой записке, будущее страны после государственного переворота и свержения власти коммунистов им виделось в буржуазной демократии по образцу союзников СССР по антигитлеровской коалиции США и Великобритании. Их представления о новой стране, согласно документам УНКВД, выглядели так: «После войны откроется частная торговля и тогда будет настоящая свобода… народ будет хорошо и свободно жить»9. К тому же, несмотря на утверждения органов госбезопасности о подготовке участниками «группы» террористических актов против «видных военных работников, находящихся на излечении в госпитале», никаких конкретных преступных действий в документе не приводилось. Таким образом, и здесь речь шла о значительном преувеличении органами госбезопасности угрозы со стороны обвиняемых.
Вышеперечисленные обвинения в создании «антисоветских вредительских групп» вполне соответствовали шаблону сталинской эпохи. Еще в 1930-е гг. под аналогичным предлогом были репрессированы и расстреляны первый нарком здравоохранения СССР Г.Н. Каминский и его преемник М.Ф. Болдырев, многие другие ответственные работники отечественного здравоохранения10. Вина врачей и медсестер, арестованных в военные годы по «политическим статьям», также выглядит сомнительной. Очевидно, им припомнили «неблагонадежное» прошлое (членство в «непролетарских» партиях, симпатии к той или иной «оппозиции» внутри партии большевиков и т.д.), к которому прибавилось их неосторожно высказанное недовольство положением дел на фронтах и социально-экономическим положением в Советском Союзе, материальными условиями жизни людей.
К тому же, не оправдывая пораженческих и паникерских настроений обвиняемых, нельзя не признать, что для этого имелась серьезная почва. Осенью 1941 г. немецкие войска находились поблизости от пределов Ярославской области, да и санитарно-эпидемиологическая обстановка внутри нее за первый военный год серьезно ухудшилась из-за появления большого числа эвакуированных из западных районов Советского Союза, а также прибывших с трудового фронта. В некоторых случаях виновниками в распространении заболеваний были военнослужащие Красной армии и группы кочующих цыган. По данным современных исследователей, в 1941–1942 гг. заболеваемость сыпным тифом возросла в 10 раз, а брюшным тифом – более чем в 3 раза11. В спецсообщении на имя секретаря Ярославского обкома ВКП (б) от 20 февраля 1942 г. руководство УНКВД констатировало, что «больницы области переполнены, вследствие чего в отдельных районах… часть тифозных больных находится на излечении дома»12. Приводили они и конкретные цифры: за январь и первую половину февраля 1942 г. в области было зарегистрировано 542 случая заболевания жителей сыпным тифом, при этом сотрудники госбезопасности были вынуждены признать упомянутую цифру неполной13.
О высоком уровне заболеваемости в Ярославской области свидетельствуют и документы Городского комитета обороны (ГорКО) Рыбинска. На его заседании 10 марта 1942 г. первые лица города констатировали «неудовлетворительность» работы председателя Комиссии по борьбе с эпидемическими заболеваниями Иванова, а также подвергли критику работу горздравотдела и райсоветов. Более того, председателю рыбинской артели «Гигиена» Малинину ГорКО объявил выговор и пригрозил привлечением к уголовной ответственности, а его подчиненных также предупредил о возможном «привлечении к строжайшей партийной и судебной ответственно-сти»14. Добиться перелома в лучшую сторону ярославским медикам удалось после перелома в ходе военных действий.
В то же время санитарное состояние областного центра оставляло желать лучшего даже в ту пору, когда фронт давно ушел на запад от границ Ярославской области. Многочисленные корреспонденции в партийной печати приводят следующую картину, типичную для некоторых пекарен Ярославля: «закопченные, ободранные потолки и стены, на полу лужи воды… мука хранится крайне небрежно»15. Аналогичные свидетельства приводятся и в отношении санаториев, больниц, санпропускников и рынков. Их здания почти сплошь требовали неотложного ремонта, ощущалась острая нехватка дров, мусор не убирался16. Поэтому неслучайны были панические или, по крайней мере, критические высказывания среди медиков.
Как известно, Великая Отечественная война привела к заметному росту уголовных проявлений в советском тылу. Медицинское сообщество также затронули эти явления. Наряду с политическими, ярославские врачи обвинялись и по уголовным делам. В первую очередь, необходимо выделить пособничество членовредительству красноармейцев и рабочих. Архивные документы свидетельствуют о самых разных способах нанесения себе повреждений, которые применяли раненые военнослужащие в эвакогоспиталях. Для затягивания заживления ран ими использовалось наложение пятикопеечной монеты, а также «выпадение прямой кишки, вызванное искусственным пальцевым нарушением сфинктера»17. Последний способ, по данным военно-экспертной комиссии, в 1942 г. активно применяли бойцы 215-й стрелковой дивизии 58-й армии Северо-Западного фронта. Дела на 17 из них были переданы в военную прокуратуру, после чего членовредители были преданы суду военного трибунала.
Иногда случаи членовредительства происходили еще в момент призыва человека на военную службу. В Пошехоно-Володарском районе области в январе 1943 г. был задержан местный житель Б-в. Летом 1941 г., узнав о мобилизации в Красную армию, он пересушил осиновую кору, пережег ее, после чего сделал порошок и наложил его, привязав, на ногу. Данный способ был известен еще со времен советско-финской войны, участником которой являлся Б-ов. В результате ему многократно удавалось обмануть неопытных врачей из районного военкомата, поэтому в мае 1942 г. Б-ов был даже признан негодным к военной службе. Факт членовредительства успешно скрывался им и от собственной жены. Правда вскрылась только в декабре 1942 г., после тщательных расспросов со стороны врачей в Рыбинске, куда уклониста направили на переосвидетельствование. В результате дело также было передано в трибунал18.
Случаи членовредительства фиксировались в ежемесячных отчетах ярославских органов госбезопасности и в дальнейшем. В ноябре 1943 г. в Первомайском районе области были арестованы три цыгана, которые систематически наносили себе телесные повреждения. Они вводили под кожу дикорастущую траву «лычко», которая вызывала раздражение подкожной клетчатки и нагноение.
Таким способом цыгане симулировали туберкулез костей19.
В Пошехоно-Володарском районе в том же году была арестована группа цыган, уклонявшихся от призыва на воинскую службу. Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет также использовали дикорастущую ядовитую траву. Натирая глаза, они вызывали воспаление слизистой оболочки и на призывных комиссиях признавались больными трахомой, а также симулировали раны на ногах. Даже после того, как их направляли в больницу на лечение, цыгане получали траву в передачах от родственников: ее прятали в хлебе и других продуктах питания, а также в сапогах. На следствии арестованные уклонисты признали, что такой способ членовредительства широко распространен среди цыган20.
Тем временем органы прокуратуры занялись незаконной помощью со стороны медицинского персонала в невыходе рабочим промышленных предприятий на работу. На совещании работников суда и прокуратуры, а также директоров предприятий и руководителей областных организаций 24 ноября 1942 г. был приведен факт уклонения рабочих путем умышленного нанесения себе легких телесных повреждений и безопасных для здоровья ожогов. Лишь за август того же года и только в Рыбинске было зафиксировано 27 таких случаев21.
Улучшение положения на фронте не повлияло на ситуацию. Через год после упомянутой записки, направленной Павловой, 20 октября 1943 г. ярославский прокурор в справке на имя секретаря обкома ВКП(б) А.Н. Ларионова привел похожие факты членовредительства на фабрике «Заря социализма» в Гаврилов-Ямском районе. Ватерщица этого предприятия Балашова натирала руку цветами куриной слепоты, вызвав искусственный ожог. В больнице ей дали больничный лист, после чего женщина не выходила на работу в течение 1,5 месяцев. Примеру Балашовой последовали ее коллеги: только за июнь 1943 г. по такому же методу прогуляли работу 20 человек. Областной прокурор сделал вывод, что «способ искусственного причинения ожога принял массовый характер»23.
Причинами пособничества работников здравоохранения армейским и тыловым членовредителям следует считать их незавидное материальное положение. Зарплата врачей областной станции переливания крови (хирургов, терапевтов и венерологов) за ноябрь и декабрь 1941 г. составляла 400 руб. в месяц, в то время как у медсестер она не превышала 245 руб., а у санитарок – 125 руб.24 Для сравнения: в ноябре 1941 г. на ярославском рынке мясо стоило 30 руб. за кг, масло – 75 руб. за кг, десяток яиц – 18 руб., литр молока – 8 руб.25 В дальнейшем цены продолжали расти. Поэтому взятки от населения в денежной или натуральной форме за справки о негодности к военной службе или больничный лист о временной нетрудоспособности помогали некоторым медицинским работникам выжить в суровые военные годы.
Медицинским учреждениям области были свойственны превышение полномочий, откровенные злоупотребления со стороны руководства. 12 июля 1943 г. начальник медицинской части эвакогоспиталя № 2496 в Галиче кандидат медицинских наук Мухин написал заявление на имя заведующего облздравотделом М.А. Державца, в котором подверг жесточайшей критике обстановку в госпитале. По его словам, там «имеют место массовые отлучки и пьянки ранболь-ных», причем начальник госпиталя «сам пьянствует, развратничает»
с медсестрами. В заявлении Мухина приводились также факты безнаказанного избиения больным Быковым медсестры Пушкаревой, хулиганства со стороны других больных: «устроили настоящее побоище, бросали в милицию камнями». Закончил свое заявление врач Мухин призывом «направить комиссию для расследования указанных… фактов и многих, многих других безобразий»26.
Призыв был услышан наверху, и в госпитале прошла проверка, полностью подтвердившая изложенные в письме Мухина факты. Выяснилось, что начальник эвакогоспиталя № 2496 подполковник медслужбы Шуранов действительно сожительствовал с медсестрами Щербиной и Федоровой, которых затем уволили из госпиталя и отправили в армию. Позднее Шуранов сожительствовал с медсестрой Кругловой. Его примеру следовал замполит госпиталя капитан Рагоза, открыто живший с медсестрой Клемюк. Кроме того, как гласил документ о результатах проверки, в госпитале «широко процветает пьянка, вечеринки, которые открыто проходят на глазах коллектива и раненых бойцов». Приводились в нем и более тяжелые правонарушения со стороны командования эвакогоспиталя: присвоение спирта, расхищение остродефицитных продуктов (колбаса, мука, мед и другие). На фоне этого трудовой коллектив на протяжении ряда месяцев питался лишь борщом, сваренным из крапивы, и недоброкачественной рыбой, причем любой протест воспринимался Шурановым как «саботаж и не советские настроения»27. По итогам проверки было рекомендовано снять подполковника Шуранова и капитана Рагозы с занимаемых должностей.
Аналогичные факты приводились в заявлении от 30 июля 1943 г., подписанном бывшим начальником материального обеспечения эвакогоспиталя № 3809 Дмитриевым и бывшим секретарем парторганизации того же госпиталя Мармутом. Они обвинили начальника госпиталя капитана медслужбы Свирина и замполита Мельцер в том, что те «свили себе прочное семейное гнездо, содержащееся на всех видах довольствия за государственный счет». Далее авторы заявления подробно перечисляли основные злоупотребления командования эвакогоспиталя № 3809: питание за счет раненых и больных военнослужащих, вынос продуктов и мыла домой, прогулы без уважительной причины и прочие нарушения трудовой дисциплины, назначение на важные должности в госпитале близких людей, пусть некомпетентных и малограмотных. Свирин устроил на работу в го- спиталь жену, свояченицу и племянницу, а позднее представил в Ярославский облздравотдел материал о представлении себя, а также родных и доверенных лиц к правительственным наградам28. В данном случае о дальнейшей судьбе как эвакогоспиталя в целом, так и указанных лиц неизвестно.
Ярославские газеты военных лет также приводили факты ненадлежащего отношения медиков к собственным обязанностям. Корреспондент органа Ярославского обкома ВКП(б) газеты «Северный рабочий» обращала внимание горздрава и облздравотдела на «бездушное» отношение к больным в Центральной поликлинике Кировского района Ярославля: «к больным относятся, как к надоедливым просителям». Так, отказали в помощи гражданке Валяевой, страдавшей острым кишечным заболеванием. Женщина жаловалась: «Я была чуть жива, но никто не пришел – ни врач, ни сестра. Лечусь своими средствами». При этом медсестра Прозуменщикова расписалась в приеме вызова, но не явилась. Такие факты, как особо подчеркивалось в заметке, были не единичны. Некоторые регистраторы и врачи поликлиники под разными предлогами отказывали в помощи даже тяжело больным людям29.
Горздравотдел Ярославля действительно отреагировал: на всех упомянутых в заметке работников было наложено административное взыскание, главному врачу поликлиники Борисовой было поставлено на вид за грубое отношение его подчиненных с больными, а заведующему Кировским райздравотделом Грачеву было указано на слабую постановку воспитательной работы с медицинским персоналом. Подчеркивалось, что заметку в газете должны были обсудить все райздравотделы областного центра30.
Еще более громкое дело описывалось в заметке «Северного рабочего», главной газеты области, спустя год. После того, как некий гражданин Ликанов почувствовал себя плохо и обратился за помощью в ярославскую станцию Скорой медицинской помощи, ему сообщили об отсутствии свободных машин. Больной пришел на станцию сам, дежурный врач Дудорина поверхностно осмотрела его и быстро отправила домой. Утром следующего дня вызванный врач Кировской поликлиники застала Ликанова в тяжелом состоянии. Она сделала пациенту подкожное впрыскивание и выдала больничный лист на три дня, однако в тот же день Ликанов скончался. Была начата проверка работы Скорой помощи Ярославля, показав- шая распространенность подобных случаев, подобного отношения к больным со стороны медперсонала поликлиники. По итогам проверки заведующий облздравотделом М.А. Державец снял с должности заведующего станцией Скорой помощи Лопатина и объявил выговор врачу Дудориной за халатное отношение к служебным обязанностям. Работу Скорой помощи было предложено взять под личную ответственность заведующему горздравотделом П.А. Федорову31.
С другой стороны, документы ярославских медиков, рассекреченные в последние десятилетия, дают современным исследователям немаловажные сведения о состоянии преступности в регионе и борьбе с ней. 4 октября 1943 г. начальник эвакогоспиталя № 1385 в Ростове подполковник медицинской службы Райхлин отправил своему начальству секретное донесение о факте перестрелки. На квартире некой гражданки Силаевой завязалась стычка между майором местного гарнизона Шкидиновым и сержантом Казаковым, самовольно покинувшим означенный госпиталь. Причиной ссоры между военными стала хозяйка. Конфликт завершился трагически. Офицер ранил сержанта из табельного пистолета, поэтому местная милиция и особый отдел военного гарнизона начали следствие. В донесении Райхлин указал на то, что квартира Силаевой давно известна как «подозрительная», добавив, что «о наличии таких квартир в городе Ростове мы неоднократно сообщали и в органы НКВД и в политдонесениях». Далее подполковник медслужбы сообщал, что самовольным отлучкам в город раненых и больных из его госпиталя «способствует помощь женской части местного населения». Женщины систематически пытались передать в эвакогоспиталь № 1385 штатскую одежду для пациентов. Причину Райхлин описывает просто и коротко: в Ростове военного времени действовал «ряд квартир, хозяева которых занимаются проституцией, торговлей вина и др.», причем начальник госпиталя посетовал на то, что милиция и органы НКВД прекрасно знают все эти адреса, однако настоящей борьбы с притонами не ведут32.
Не отрицая героизма ярославского медицинского сообщества военных лет, нельзя ретушировать историю и не видеть иную, отнюдь не героическую и не парадную сторону жизни в годы Великой Отечественной войны. Медики были слепком со всего советского общества. Тяжелейший напряженный труд, серьезное численное сокращение, отсутствие опыта у многих медработников периферии, тяжелое материальное положение врачей и младшего медицинского персонала, постоянное давление власти приводили к моральнопсихологическому надлому некоторых из них. Следствием этого надлома стали нарушения служебной дисциплины и уголовные преступления. К тому же сами работники здравоохранения были людьми со своими слабостями и недостатками. Различался уровень их профессиональной и общей культуры, морали и нравственности. Поэтому вышеперечисленные криминальные отклонения военной эпохи следует считать горькой, но естественной и объяснимой стороной их жизни.
Список литературы Медицинское сообщество Ярославской области в годы Великой Отечественной войны: неизвестные страницы
- Центр документации новейшей истории. Ф. 3125. Оп. 1. Д. 4. Л. 2.
- Архив УФСБ РФ по Ярославской области. Ф. 1. Оп. 35. Д. 2. Л. 31, 51, 60.
- Архив УФСБ РФ по Ярославской области. Ф. 1. Оп. 35. Д. 1. Л. 89, 91 об.
- Архив УФСБ РФ по Ярославской области. ф. 1. Оп. 35. Д. 4. Л. 39, 56, 154.
- Архив УФСБ РФ по Ярославской области. ф. 1. Оп. 36. Д. 1. Л. 4-6, Л. 8-9, 151, 211.
- Ерегина Н.Т. Вычеркнутые из жизни//История в подробностях. 2012. № 6. С. 66-69.
- Ерегина Н.Т., Шелия Ж.А. Здравоохранение Ярославской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). Ярославль, 2003. С. 9.
- Центр документации новейшей истории. Ф. 7974. Оп. 1. Д. 2. Л. 6-7.
- Розова А. Антисанитария в пекарнях//Северный рабочий (Ярославль). 1943. 25 февр.
- Комина Н. Благодарность//Северный рабочий. 1944. 4 янв.
- «Боясь простудиться»//Северный рабочий. 1944. 25 февр.
- Николаев. Антисанитария в... Костромском санпропускнике//Северный рабочий. 1944. 7 марта.
- Лобанова К. Навести порядок на рынках//Северный рабочий. 1944. 15 марта.
- Государственный архив Ярославской области. Ф. Р-2228. Оп. 4. Д. 124. Л. 16 об., 17, 26.
- Архив УФСБ РФ по Ярославской области. Ф. 1. Оп. 35. Д. 73. Л. 8, 218-218 об., 231.
- Центр документации новейшей истории. Ф. 272. Оп. 224. Д. 555. Л. 39-40.
- Центр документации новейшей истории. Ф. 272. Оп. 224. Д. 948. Л. 57 об.
- Государственный архив Ярославской области. Ф. Р-2228. Оп. 4. Д. 60. Л. 56.
- Государственный архив Ярославской области. Ф. Р-2228. Оп. 1. Д. 332. Л. 32, 33, 37-45.
- Русинова М. Черствые люди//Северный рабочий. 1943. 2 февр.
- По следам наших выступлений: «Черствые люди»//Северный рабочий. 1943. 18 февр.
- Преступное отношение к больному//Северный рабочий. 1944. 4 февр.
- Государственный архив Ярославской области. Ф. Р-2228. Оп. 4. Д. 170. Л. 81, 82 об.