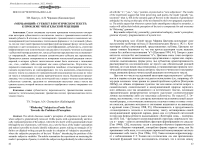«Мерцающий» субъект в поэтическом тексте: к проблеме читательской рецепции
Автор: Цвигун Татьяна Валентиновна, Черняков Алексей Николаевич
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Теория литературы
Статья в выпуске: 4 (63), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению принципов читательского восприятия категории субъектности в поэтических текстах с грамматически снятой позицией субъекта. В отличие от стихотворений с грамматически и лексически эксплицированной (местоимениями, глагольными формами и т.п.) позицией субъекта, где сам текст своей грамматической фактурой настраивает фокус читательской рецепции и дает возможность четко идентифицировать субъектность, стратегии инфинитивного или эллиптического письма могут поставить читателя в ситуацию «субъектной неопределенности», когда субъектная перспектива текста оказывается «мерцающей», вводящей позиции семантического субъекта как переменные. Приводятся данные эксперимента по измерению читательской рецепции стихотворений, в которых субъект гипотетически может быть соотнесен с позициями «я», «ты», «любой» либо воспринят как «ноль субъектности». Результаты эксперимента показывают, что при восприятии подобных стихотворений читатель склонен осуществлять их «автокоррекцию» (то есть восполнять семантическую полноту текста в условиях его грамматической неоднозначности) исходя из топики текста и помещения ее в рамку прагматического опыта. Выдвигается предположение, что в ситуациях, когда поэтический текст лишает читателя однозначных субъектных семантик, средством их компенсации выступает смысл текста как единого целого, который читатель пытается «пробросить» сквозь «мерцание» его грамматики.
Субъектность, персональность, грамматическая неоднозначность, читательская рецепция, грамматика поэзии, прагмасемантика поэтического текста
Короткий адрес: https://sciup.org/149141362
IDR: 149141362 | DOI: 10.54770/20729316-2022-4-42
Текст научной статьи «Мерцающий» субъект в поэтическом тексте: к проблеме читательской рецепции
В мемуарном эссе «Герой труда» Марина Цветаева вспоминает свое выступление на Вечере поэтесс в Политехническом Музее в 1921 г. Комментируя выбор стихотворений, представленных публике, Цветаева называет «явным безумием» то, что она прочла аудитории «семь женских стихов без любви и местоимения “я”» [Цветаева 1994, 44]. Говоря о девиантности «стихов без местоимения “я”», Цветаева очень точно воспроизводит уже ставшее аксиоматическим представление о лирике как «перволичном» высказывании, форме речи, чья субъектная ориентированность рассматривается исследователями не просто как обязательный родовой признак, но и как некая смысловая рамка, устанавливающая правила эстетической коммуникации между автором, текстом и читателем и настраивающая движение фокуса читательской рецепции поэтического текста.
При том что число исследований категории персональности / субъектности в лирике сегодня трудно поддается исчислению (см., например, обзор ряда основных точек зрения по данной проблеме в работе [Ковтунова 2005а]), их общим отправным пунктом так или иначе остается вопрос о семантической, семиотической и коммуникативной природе перволичного дейксиса, или так называемого «я поэтического текста», основным грамматическим репрезентантом которого выступает соответствующее личное местоимение либо его текстовые субституты. По мысли Е.Г Эт-кинда, местоимение, «этот для прозы неизменно малозначительный лексический разряд, в поэтических контекстах получает новые и новые оттенки смыслов, разными методами и системами выдвигается на авансцену, в крупный план» [Эткинд 1998, 95]. Обоснованность и продуктивность «эгоцентричного» подхода к поэтическому тексту мотивированы самой коммуникативной природой лирики, равно как и глубинной онтологией поэзии как формы речевого высказывания: «Категория лица, - подчеркивал Я.И. Гии, - фундамент коммуникативной структуры лирического текста и - шире - один из активнейших факторов формирования его смысла» [Гии 1996b, 120], поскольку «если в ситуации обычного (практического) речевого общения говорящий, употребляя формы первого лица, как бы присваивает себе язык, то в ситуации лирической коммуникации читатель присваивает себе текст» [Гии 1996с, ПО]. Такая позиция корреспондирует с наблюдениями С.Т. Золяна над поэтическим «я» как прагмасеман-тической функцией текста: исследователь отмечает, что в поэзии между
различными ипостасями «я» («я читателя», «я автора», «я поэтического текста» и т.д.) «устанавливается отношение дейктической метафоры... В этом смысле и я, читатель, и я-автор оказываемся одним из возможных метафорических значений поэтического “я”» [Золян 1991, 219].
Сложность и своеобразие лирики, по мнению И.И. Ковтуновой, определяется тем, что это здесь перволичное высказывание есть не просто одно из ряда средств грамматического оформления позиции субъекта речи, но «прежде всего особая позиция лирического поэта по отношению к миру»; именно поэтому «обозначение первого лица в тексте может отсутствовать, но определенная позиция лирического я, его точка зрения всегда остается» [Ковтунова 2005а, 8]. Это выводит вопрос о персональности / субъектности поэтического текста в сложное поле взаимодействия литературоведческих и лингвистических постулатов, в частности, проблематизирует соотносимость разных типов субъектов - грамматического (синтаксического) и семантического, авторского и геройного, заданного текстом и (ре)конструируемого в читательской рецепции и т.д. Если суммировать долгую методологическую историю решения этого вопроса, мы столкнемся с исключительным разнообразием описанных исследователями субъектных валентностей: к ним будут относиться, например, «я» лирического героя (у Лермонтова или Блока), «я» тематическое (ср. «я» любовной лирики vs. «я» гражданской лирики vs. «я» философской лирики и т.д. у Пушкина), «я» жанровое (в периоды жанровой детерминации), «я» иконическое (ср. «Иду - красивый, двадцатидвухлетний...» Маяковского или «Мне имя Марина...» Цветаевой), «я» как эстетический жест (ср. «Я люблю смотреть, как умирают дети...» Маяковского), «я» риторическое (ср. наблюдения P.O. Якобсона над «метонимическим я» Пастернака и «метафорическим я» Маяковского в «Заметках о прозе поэта Пастернака»), вплоть до длинных парадигм субъектности в отдельных художественных текстах (например, Борис Пастернак - Юрий Живаго - лирическое «я» - «я» ролевой лирики (Гамлет) и т.д. в «Докторе Живаго» Пастернака). Сколь бы ни были разнообразны сами эти субъектные валентности, равно как и тексты, их репрезентирующие, во всех подобных случаях эксплицированность субъекта не подлежит сомнению: он выражен грамматически, буквально «вшит» в текст; автор (в своей пресуппозиции) и / или текст (в поле читательской рецепции) могут устанавливать разные взаимоотношения между грамматическим, семантическим и семиотическим (что означивает «я»?) субъектами, но само наличие субъекта здесь бесспорно, поскольку задано грамматикой.
Следует учесть, что когда мы говорим о субъектности в лирике, она вовсе не обязательно ограничена полем личного местоимения «я»: в роли субъекта может выступать любой актант, ассоциированный с подлежащим (точнее, любой актант-подлежащее, соотносимый с антропным субъектом). Иными словами, для поэзии субъектность - это не только «я», но и «ты» («О, закрой свои бледные ноги» Брюсова или «Идешь, на меня похожий. ..» Цветаевой), и «он / она» («Она отдалась без упрека, Она целовала без слов...» Бальмонта), и «мы» («Мы разливом второго потопа перемоем миров города...» Маяковского). Все подобные случаи объединяет одно: в них правила прочтения и понимания субъектности детерминированы самой грамматикой текста, и это в очередной раз убеждает в справедливости мысли Я.И. Гина о том, что «в сфере лексической полнее и ярче всего выражается авторская индивидуальность, его “насилие” над языком, “преодоление” им материала: лексическая поэтика - поэтика свободы. Грамматическое же значение в большей мере отражает диктат самой языковой системы, “насилие” языка над художественной конструкцией» [Гии 1996а, 78].
Вместе с тем вопрос о персональности / субъектности требует существенно иных решений применительно к тем поэтическим текстам, грамматическая фактура которых лишает читателя однозначно понимаемой «точки субъекта» - особенно в тех случаях, когда субъектная неопределенность, подвижность, гипотетичность отрефлексирована автором и выступает как поэтический прием. В подобных случаях мы наблюдаем любопытный парадокс: читательская пресуппозиция настроена на восприятие поэтического текста как «сильного» персонального высказывания, в то время как сам текст либо не позволяет четко идентифицировать субъект, либо противится такой идентификации. Вытеснение грамматического субъекта, тем не менее, не отменяет для читателя ощущение наличия субъекта семантического - «автокоррекция» (в терминологии Группы ц) грамматического «нулевого знака» должна осуществляться за счет выдвижения семантической рамки текста. И.И. Ковтунова описывает многочисленные синтаксические и образные способы «устранения я», создания «перволичного аскетизма» поэтического текста, которые способствуют динамической подвижности субъектной перспективы произведения [см.: Ковтунова 2005а, 45-70]; Н.К. Онипенко анализирует смежное явление, которое определяет как «эгоцентрическая техника» - «использование “значимого отсутствия”» местоимения «я», которое в связи с Я-модуспой рамкой текста обнаруживает «субъектную прикрепленность высказывания» [Онипенко 2011, 68-69], приходя к выводу: «Художественный текст тем и хорош, что допускает множественность интерпретаций, и одним из средств умножения возможных интерпретаций оказывается... эгоцентрическая грамматическая техника, позволяющая читателю соединять свое Я с Я лирического героя» [Онипенко 2011, 79]. Пределом такой текстовой ситуации, очевидно, следует считать стихотворение, из которого устранены не только личные местоимения, но и способные выражать категорию лица глагольные формы, но при этом семантика действия в тексте присутствует и эксплицирована через его атрибуты, вроде цветаевского «По холмам - круглым и смуглым...». Значительно более распространены тексты, субъектная перспектива которых строится на «субъектах-переменных», где отсутствие грамматического субъекта позволяет воспринимать в качестве субъекта семантического индивидуальный субъект «я», адресный субъект «ты», обобщенный субъект «любой / всякий» - либо же текст

может прочитываться вовсе как бессубъектный.
В предложенной Ю.И. Левиным классификации лирических субъектов позиции «я» соответствуют тексты эготивного типа, позиции «ты» -тексты апеллятивного типа [см.: Левин 1998, 469]; возможность субъекта «любой / всякий», в свою очередь, обусловлена отмеченным Л.Я. Гинзбург «парадоксом лирики»: «Самый субъективный род литературы, она (лирика. - Т.Ц., А.Ч.), как никакой другой, устремлена к общему, к изображению душевной жизни как всеобщей» [Гинзбург 1997, 10] (ср. у Ю.И. Левина: «формула лирики: она подает субъективное как общее» [Левин 1998, 468]). Субъектная семантика этих позиций в целом может быть проиллюстрирована типовой семантикой односоставных предложений: «я» и «ты» можно соотнести с определенно-личным предложением, «любой / всякий» - с обобщенно-личным предложением, нулевую позицию субъекта - с безличным предложением без субъектно-объектных дополнений при предикате - с тем лишь обязательным уточнением, что собственно грамматические маркеры «личности» (т.е. соответствующая глагольная форма) здесь отсутствует.
Применительно к таким текстам особый интерес приобретает проблема измерения читательской рецепции: если предположить, что читатель по тем или иным присутствующим в тексте знакам опознаёт наличие в нем (тексте) семантического субъекта, тогда как сам этот субъект оказывается скрыт от его непосредственного (грамматически детерминированного) восприятия, сможет ли он - читатель - осуществить «автокоррекцию» и в своем восприятии восполнить грамматические «нули» в позиции субъекта? Сложность решения такой «рецептивной задачи» для читателя связана с тем, что, как отмечает И.И. Ковтунова, «степень неопределенности различна для читателя и для поэта. То, что остается неопределенным для поэта, остается неопределенным и для читателя. Но для читателя существует и та неопределенность, которую поэт... вводит в художественный образ» [Ковтунова 2005b, 278].
В попытке ответить (или обозначить возможность ответа) на этот вопрос мы провели эксперимент по измерению читательской рецепции поэтических текстов с, условно говоря, «мерцающей» субъектностью. Перед респондентами - студентами Балтийского федерального университета имени И. Канта (100 человек) - была поставлена задача ознакомиться с четырьмя поэтическими текстами авторов XX - начала XXI в. и соотнести отмеченные в них грамматические позиции с одним или несколькими (вплоть до всех вариантов) семантическими субъектами: «я», «ты», «любой», «нет» (т.е. в восприятии читателя субъект отсутствует или не может быть идентифицирован). Предложенные респондентам тексты - образцы т.н. инфинитивной поэзии («Февраль» Б. Пастернака и «Устроиться на автобазу...» С. Гандлевского) и стихотворения, в которых при опущенном подлежащем сказуемое употреблено в форме прош. вр. ед. ч. м. р. («Свернулся калачиком...» Е. Летова и «Мечтал, увидел, устремился...» С. Галанина), их можно определить как тексты с регулярным эллипсисом. Не делая субъектность инфинитивной поэзии (ИП) предметом специального обсуждения, А.К. Жолковский характерно обращает внимание на «модально-альтернативное мерцание лирического “я” ИП - одновременно “человека вообще” и более или менее конкретного “другого”» [Жолковский 2020, 21] и относит к числу устойчивых топик данной поэтической стратегии «протеическую экспансию субъекта»; субъектная перспектива поэтических текстов с эллипсисом подлежащего при сказуемых, употребленных в указанной выше грамматической форме, строится на приблизительно сходных основаниях.
Синтаксическая природа инфинитивных (в первом случае) и неполных (во втором) предложений такова, что при грамматически отсутствующей (у инфинитива) или не идентифицируемой (у глагольной формы прошедшего времени) позиции грамматического субъекта понимание семантического субъекта в таких предложениях в обыденной речи обычно не вызывает затруднений: «автокоррекция» грамматического отсутствия субъекта осуществляется из зоны прагматики - смысловой рамки предложения и его типового употребления. Так, например, при полной грамматической идентичности предиката предложение типа А еще контрольную выполнять говорящий и слушающий почти однозначно соотнесут с позицией «я», предложение Молчать! Не сметь перечить! - с позицией «ты», а предложение Призвать бракоделов к ответу! - с позицией «любой»; предложение Вчера смотрел интересный фильм имплицирует субъект «я», Коля реферат подготовил? - Подготовил еще вчера - субъект «он» (в этом случае «автокоррекцию» осуществляет контекст), Дачу построили в позапрошлом году, скорее всего, «мы», а Эту высотку построили в позапрошлом году - неопределенный субъект, соотносимый с «они» неопределенно-личного предложения. Иными словами, в обыденной коммуникации грамматическая «ноль-субъектность» таких предложений сама по себе еще не становится предпосылкой для множественности толкований и, следовательно, коммуникативной неудачи - можем ли мы ожидать, что те же принципы прагматической «автокоррекции» сработают при рецепции поэтического текста?
Для наглядности приведем эти тексты целиком (полужирным шрифтом во всех текстах, кроме последнего, выделены позиции для «опознания» респондентами субъекта):
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд, Пока грохочущая слякоть Весною черною горит.
Достать пролетку. За шесть гривен, Чрез благовест, чрез клик колес, Перенестись туда, где ливень Еще шумней чернил и слез.
Где, как обугленные груши, С деревьев тысячи грачей Сорвутся в лужи и обрушат Сухую грусть на дно очей.
Под ней проталины чернеют, И ветер криками изрыт, И чем случайней, тем вернее Слагаются стихи навзрыд. (Б. Пастернак)
Устроиться на автобазу И петь про черный пистолет. К старухе матери ни разу Не заглянуть за десять лет. Проездом из Газлей на юге С канистры кислого вина Одной подруге из Калуги Заделать сдуру пацана. В рыгаловке рагу по средам, Горох с треской по четвергам. Божиться другу за обедом Впаять завгару по рогам. Преодолеть попутный гребень Тридцатилетия. Чем свет, Возить «налево» лес и щебень И петь про черный пистолет. А не обломится халтура - Уснуть щекою на руле, Спросонья вспоминая хмуро Махаловку в Махачкале. (С. Гандлевский)
Свернулся калачиком Облетел одуванчиком Отзвенел колокольчиком На всю оставшуюся жизнь Застенчивая ярость Кокетливая скорбь Игривое отчаяние На всю оставшуюся жизнь Вежливая ярость (Е. Летов)
Мечтал, увидел, устремился,
Спешил, ошибся, не достал,
Разбился вдребезги, добился, Привык, забыл и потерял.
Нашел, поднял, протер и спрятал,
Закрыл, зарыл, припорошил, Не думал, не грешил, не лапал, Поторопился, затушил.
Уехал, улетел, вернулся,
Приплыл, пришел, приковылял,
Устал, прилег, завис, очнулся, Завыл, залаял, замычал.
Напился, протрезвел, умылся,
Собрал, слепил, нарисовал,
Смеялся, спорил, вновь напился, Привык, забыл и потерял.
Разбился вдребезги, добился, Привык, забыл и потерял. (С. Галанин)
Анализ результатов эксперимента показал наличие двух ситуаций восприятия респондентами предложенных текстов: в первом случае респондент указывал для текста только один тип субъекта («я», «ты», «любой» или «нет»), во втором - два или несколько типов субъекта в разных комбинациях. Сводные данные по этим типам интерпретации выглядят следующим образом:
-
1. Б. Пастернак:
-
1.1. Однородная интерпретация: «я» - 50%, «ты» - 4%, «любой» - 9%, «нет» - 2%;
-
1.2. Неоднородная интерпретация: «я / любой» - 17%, «я / ты» - 0, «я / нет» - 4%, «я / ты / любой» - 3%, «я / ты / любой / нет» - 3%, «я / любой / нет» - 4%, «все, кроме я» - 4%;
-
-
2. С. Гандлевский:
-
2.1. Однородная интерпретация: «я» - 34%, «ты» - 4%, «любой» -20%, «нет» - 5%;
-
2.2. Неоднородная интерпретация: «я / любой» - 13%, «я / ты» - 5%, «я / нет» - 1%, «я / ты / любой» - 5%, «я / ты / любой / нет» - 4%, «я / любой / нет» - 3%, «все, кроме я» - 6%, все позиции - 1%;
-
-
3. Е. Летов:
-
3.1. Однородная интерпретация: «я» - 24%, «ты» - 19%, «любой» -22%, «нет» - 16%;

-
3.2. Неоднородная интерпретация: «я / любой» - 5%, «я / ты» - 4%, «я / нет» - 1%, «я / ты / любой» - 4%, «я / ты / любой / нет» - 0, «я / любой / нет» - 2%, «все, кроме я» - 3%;
-
-
4. С. Галанин:
-
4.1. Однородная интерпретация: «я» - 37%, «ты» - 2%, «любой» -26%, «нет» - 3%;
-
4.2. Неоднородная интерпретация: «я / любой» - 14%, «я / ты» - 5%, «я / нет» - 0, «я / ты / любой» - 8%, «я / ты / любой / нет» - 2%, «я / любой / нет» - 0, «все, кроме я» - 3%.
-
Сопоставление результатов рецепции инфинитивного письма показывает практически одинаковое соотношение однородной и смешанной интерпретаций для обоих текстов: с незначительным отклонением это пропорция 2:1 (65:35 по тексту Пастернака и 63:37 по тексту Гандлевского), что, очевидно, должно свидетельствовать об относительной доступности данной грамматической стратегии для читательского восприятия. Вместе с тем анализ данных вскрывает любопытную особенность: соотнесение читателем стихотворений Б. Пастернака и С. Гандлевского с конкретным типом субъекта обнаруживает не только большую степень вариативности читательского понимания этих текстов, но и - в случае Пастернака - довольно высокую степень несовпадения читательского восприятия с семантической моделью, которая может быть построена при аналитическом прочтении данного стихотворения. Инфинитивность в текстах Пастернака и Гандлевского, несмотря на кажущуюся формально-грамматическую идентичность, реализует совершенно разные семантические ситуации. Так, у Пастернака инфинитивные предложения одновременно обращены к «я» поэта (как средство экспликации поэтической рефлексии о письме) и к некоему «ты», которому адресован инфинитивный «рецепт» поэтического творчества, - при моделировании читательской рецепции мы склонны ожидать, что читатель будет способен увидеть эту двойственность и указать «я» и «ты» в качестве субъекта текста если не в равной, то хотя бы в соотносимой пропорции. Этого, однако, не происходит: для читателя субъект пастернаковского «Февраля» - это в 50% случаев «я», в 17% -«я» / «любой», в 9% - «любой», лишь в 4% - «ты» и ни разу (!) - «я/ты». Зато восприятие стихотворения Гандлевского, в котором инфинитивность работает как «обобщенно-личное», рождая поэтический нарратив о некоей «средней жизни среднего человека», уже значительно ближе к «модельной схеме» рецепции: частотность выбора субъекта «я» (34%) лишь в полтора раза выше, чем субъекта «любой» (20%), и еще 23% приходится на сумму различных комбинаций «я», «ты» и «любого» в смешанном типе интерпретации.
Симптоматично, что рецепция отличающегося по своей грамматической стратегии, но семантически и тематически чрезвычайно близкого тексту Гандлевского стихотворения С. Галанина демонстрирует почти полное совпадение с ним в результатах: читатели всё так же склонны предпочитать однородную его интерпретацию (68%) неоднородной (32%), свя- зывая при этом субъектную перспективу текста Галанина преимущественно с «я» (37%) или «любым» (26%), всё так же высока доля комбинаций «я», «ты» и «любого» (в сумме 29%). Зато стихотворение Е. Летова, которое с точки зрения смысла логично было бы соотнести исключительно с позицией «я» (по сравнению с остальными текстами эксперимента его сложнее всего прочесть как адресованное «тебе» или ассоциированное с «любым»), со всей очевидностью ставит читателя в ситуацию полной рецептивной неуверенности. Хотя оно дает наивысший показатель по однородной интерпретации (81% против 19% неоднородной интерпретации), оно же обнаруживает и наибольший разброс по субъектным ролям: «я» -24%, «ты» - 19% (максимум по всем текстам!), «любой» - 22%, а 16% респондентов вообще оценивают его как бессубъектное.
Выскажем некоторые предположения о возможных причинах полученных результатов и о некоторых тенденциях читательской рецепции «мерцающего» субъекта в ситуации грамматической неопределенности текста. Как представляется, при всей величине дистанции, разделяющей поэтическую и обыденную речь, в них действуют вполне сопоставимые механизмы «автокоррекции» и понимания грамматической неоднозначности, имеющие прагматическую (или прагмасемантическую) природу. Так, сопоставление результатов читательского восприятия стихотворений Б. Пастернака, С. Гандлевского и С. Галанина приводит к предположению, что топос «письма / творчества» для читателя при помещении его в рамку прагматического опыта скорее тяготеет к четко различимой персонально-сти «я», репрезентирующей акт «при-своения» письма поэтом в акте порождения художественного высказывания, в то время как топос «жизни / обыденности», напротив, диктует читателю видеть за ним неразличимую обобщенность субъекта («я» как «любой», «всякий», «каждый»), В свою очередь читательская неуверенность в субъектной природе стихотворения Е. Летова вполне может быть объяснена прагмасемантикой иного рода: будучи яркой иллюстрацией мысли ГО. Винокура о том, что «подлинной языковой реальностью, обладающей конкретной полнотой своего значения», «исходным синтаксическим целым» является «отдельное законченное стихотворение» [Винокур 1990, 245-246], этот текст по сравнению с тремя остальными обнаруживает не только наибольшую тематико-смысловую абстрактность, но и наибольшую сложность своей формальной организации. Во-первых, это верлибр; во-вторых, в стихотворении появляется регулярная номинативность, способная перетянуть на себя внимание с глагольности; в-третьих, эта номинативность дополнительно осложнена оксюморонностью; в-четвертых, весь текст построен как сверхорганизованный паттерн, реализующийся одновременно (и при этом разными средствами) на уровне словообразования, синтаксиса и топики - всего этого более чем достаточно для того, чтобы читательская рецепция максимально сконцентрировалась на считывании кода и переориентировалась с грамматической неоднозначности на неоднозначность общетекстовую. На наш взгляд, данные проведенного эксперимента оригинальным обра-
зом подтверждают мысль Я.И. Гина о категории субъектности как «одном из активнейших факторов» формирования смысла поэтического текста - однако в обратной перспективе: там, где поэтический текст лишает читателя однозначных субъектных семантик, средством их компенсации выступает уже сам смысл текста как единого целого, который читатель пытается «пробросить» сквозь «мерцание» его грамматической фактуры. Отсутствующий в тексте грамматический субъект (ноль-субъект) в акте читательской рецепции буквально «прорастает» из топики текста, осуществляясь как субъект семантический.
Список литературы «Мерцающий» субъект в поэтическом тексте: к проблеме читательской рецепции
- Винокур Г.О. Я и ты в лирике Баратынского (Из этюдов о русском поэтическом языке) // Винокур Г.О. Филологические исследования: Лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1990. С. 241–249.
- (a) Гин Я.И. К вопросу о построении поэтики грамматических категорий // Гин Я.И. Проблемы поэтики грамматических категорий. СПб.: Академический проект, 1996. С. 75–86.
- (b) Гин Я.И. О построении поэтики грамматической категории лица // Гин Я.И. Проблемы поэтики грамматических категорий. СПб.: Академический проект, 1996. С. 120–124.
- (c) Гин Я.И. Поэтика грамматической категории лица в русской лирике // Гин Я.И. Проблемы поэтики грамматических категорий. СПб.: Академический проект, 1996. С. 109–119.
- Гинзбург Л.Я. О лирике. М.: Интрада, 1997. 416 с.
- Жолковский А.К. Об инфинитивной поэзии // Русская инфинитивная поэзия XVIII–ХХ веков. Антология / Сост., вступ. ст. и примеч. А.К. Жолковского. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 5–52.
- Золян С.Т. Структура и семантика поэтического текста. Ереван: Изд-во Ереванского университета, 1991. 316 с.
- (a) Ковтунова И.И. Категория лица в языке поэзии // Поэтическая грамматика. М.: ООО ИЦ «Азбуковник», 2005. Т. 1. С. 7–72.
- (b) Ковтунова И.И. Синтаксис поэтического текста // Поэтическая грамматика. М.: ООО ИЦ «Азбуковник», 2005. Т. 1. С. 239–297.
- Левин Ю.И. Лирика с коммуникативной точки зрения // Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998. С. 464–480.
- Онипенко Н.К. Категория субъекта и эгоцентрическая грамматическая техника в художественном тексте // Gramatyka a Tekst. T. 3. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2011. S. 64–79.
- Цветаева М.И. Герой труда (Записи о Валерии Брюсове) // Цветаева М.И. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 4. М.: Эллис Лак, 1994. С. 12–63.
- Эткинд Е.Г. Материя стиха. СПб.: Гуманитарный союз, 1998. 507 с.