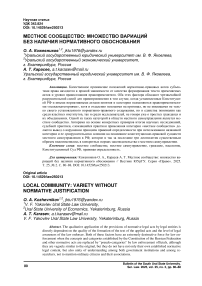Местное сообщество: множество вариаций без наличия нормативного обоснования
Автор: Кожевников О.А., Карасев А.Т.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Публично-правовые (государственно-правовые) науки
Статья в выпуске: 2 т.25, 2025 года.
Бесплатный доступ
Качественное применение положений нормативно-правовых актов субъектами права находится в прямой зависимости от качества формирования текста применяемых актов и уровня правосознания правоприменителя. Оба этих фактора обладают чрезвычайной разрушительной силой для правоприменения в том случае, когда установленные Конституцией РФ и иными нормативными актами понятия и категории подменяются правоприменителями «псевдокатегориями», хотя и отдаленно похожими на оригинал, но не имеющими не только своего установленного нормативно-правового содержания, но и единства понимания как среди властных институтов, так и среди исследователей, не говоря уже о простых гражданах и их объединениях. Одной из таких категорий в области местного самоуправления является местное сообщество. Авторами на основе конкретных примеров итогов научных исследований, судебной практики, сложившейся практики применения категории «местное сообщество» делается вывод о нарушении принципа правовой определенности при использовании названной категории и ее «разрушительном» влиянии на понимание конституционно-правовой сущности местного самоуправления в РФ, которое и так за последние три десятилетия существенным образом видоизменилось в конкретных нормах законодательства о местном самоуправлении.
Местное сообщество, местное самоуправление, граждане, население, конституционный суд рф, правовая определенность
Короткий адрес: https://sciup.org/147251185
IDR: 147251185 | УДК: 342.824 | DOI: 10.14529/law250213
Текст научной статьи Местное сообщество: множество вариаций без наличия нормативного обоснования
Публичное обсуждение различных аспектов местного самоуправления и направлений его развития в РФ уже давно не является новеллой, а можно даже сказать стало традиционной визитной карточкой как многих вузов, так и властных дискуссионных площадок. В качестве примеров можно отметить ежегодный Российский муниципальный форум, проходящий в сентябре каждого года в г. Анапе при поддержке Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению, ежегодно проводимая в стенах Российского университета дружбы народов Всероссийская конференция с международным участием «Проблемы и перспективы развития местного самоуправления в Российской Федерации и зарубежных странах», прошедший в январе 2024 года в г. Москве Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России», Международный Муниципальный форум стран БРИКС состоявшейся в августе месяце 2024 года в столице России. Однако, несмотря на такое обилие дискуссионных площадок, многочисленные аспекты местного самоуправления, его правового регулирования, складывающейся правоприменительной практики еще долго будут предметом дискуссий, докладов, статей и иных форм реакции неравнодушных людей к судьбе местного самоуправления в России.
Представляемая авторами настоящего исследования тема, с одной стороны, достаточно банальна и не нова, поскольку понятие местного сообщества в правовой науке достаточно известное и употребляемое. В пользу данного вывода достаточно привести лишь несколько примеров авторских подходов к пониманию местного сообщества.
Так, В. А. Лапин под местным сообществом предлагает понимать «сообщество людей, тижения совместных целей» [14]. Известный исследователь местного самоуправления И. В. Бабичев местное сообщество определяет как «организованную социальную группу, обладающую набором признаков – общность индивидов в группе, организационная власть, наличие цели» [1]. Судья Конституционного Суда РФ Н. С. Бондарь определяет местное сообщество как «социально-территориальную основу муниципальной демократии и первичную социально-территориальную группу, субъект первичных самоуправленческих прав коллективного характера» [2].
И подобных примеров использования категории «местное сообщество» в научной литературе, средствах массовой информации можно приводить большое количество, однако, одно дело – специальная научная литература, дискуссионные площадки, другое дело – правоприменительная практика и объективная реальность. Хотя несомненно, что практика, не основанная на серьезной предварительной проработке, научно-обоснованном фундаменте изначально ущербна и иногда даже вредна.
Конституция РФ совершенно четко и определенно закрепляет положения, согласно которым местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. Наличие указанных форм осуществления местного самоуправления позволяет в конституционно-обоснованных пределах обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Таким образом, субъектами местного самоуправления, согласно Конституции РФ, являются граждане, в отдельных случаях именуемые как население, а также органы местного самоуправления. Таким образом, главный и основной юридический акт нашего государства ни о каком мест- ном сообществе не упоминает. Данный факт особенно важен в контексте того, что ст. 15 Конституции РФ закрепляет ее верховенство по отношению ко всем законам и иным правовым актам, принимаемым в Российской Федерации, а значит, в российской нормотворческой и правоприменительной деятельности не должно допускаться использование конституционно неустановленных терминов и понятий. Этот вывод важен и в том аспекте, что высший орган конституционного контроля в РФ – Конституционный Суд РФ – неоднократно в своих решениях выражал правовую позицию относительно чрезвычайной важности соблюдения принципа правовой определенности при оценке конституционности текста нормативных актов: «Неоднозначность, неясность и противоречивость регулирования недопустимы, поскольку, препятствуя надлежащему уяснению его содержания, открывают перед правоприменителем возможности неограниченного усмотрения, ослабляющего гарантии конституционных прав и свобод» (Информация «Конституционноправовая защита предпринимательства: актуальные аспекты (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 2018–2020 годов)» (одобрено решением Конституционного Суда РФ от 17 декабря 2020 г.)). При этом нельзя не отметить, что тот же Конституционный Суд РФ неоднократно свои же позиции «нивелирует» и упоминает о местном сообществе в отдельных своих решениях, способствуя нарушению нормотворческой дисциплины со стороны прежде всего федерального законодателя.
В этой связи авторы настоящей статьи задают себе вполне обоснованный вопрос: «Тогда почему же так настойчиво в научной литературе и даже в отдельных заявлениях политиков присутствует неуемная тяга к употреблению термина «местное сообщество»?». Полагаем, что тут есть несколько предпосылок, при этом оговоримся, что ни одна из них в настоящее время не является убедительной и доказывающей необходимость внедрения категории «местное сообщество» в современную российскую нормативную базу.
-
1. Как было отмечено ранее, и, как бы это ни было печально, непривычно для научной дискуссии, одним из основных субъектов, «раскачивающих» единство муниципальноправовой терминологии, является Конституционный Суд РФ. Именно он на протяжении
уже довольно длительного времени, рассматривая дела, посвященные правоотношениям в области местного самоуправления, в мотивировочной части решений неоднократно, но в различных интерпретациях упоминает категорию «местное сообщество». Приведем лишь несколько примеров. Одно из самых первых упоминаний о местном сообществе было в Постановлении Конституционного Суда РФ от 1 февраля 1996 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Устава – Основного Закона Читинской области», в котором суд, ссылаясь на положения Федерального закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отметил, что «данный акт не содержит понятия «исполнительные органы местного самоуправления» и, требуя в обязательном порядке наличия выборных органов муниципальных образований, оставляет создание других органов на усмотрение самих местных сообществ». Таким образом, высший орган конституционного надзора, вопреки прямым и непосредственным положениям Конституции РФ, ввел в правовую плоскость регулирования местного самоуправления такой субъект права, как «местное сообщество».
-
2. Следующей предпосылкой частого появления в публичном пространстве упоминания о местном сообществе является нарастающее отчуждение граждан и в целом населения муниципальных образований от непосредственного участия в местном самоуправлении. Действовавшая с 1 сентября 1998 г. до 16 марта 2022 г. в России Европейская хартия местного самоуправления определяла местное самоуправление не только как закрепленное в актах государства право, но и реальную способность населения самостоятельно либо через органы местного самоуправления решать значительную часть публичных дел, именуемую в нашем государстве как вопросы местного значения. На этот подход императивным образом указывают положения ч. 2 ст. 130 Конституции РФ, которые прямо связывают местное самоуправление с прямыми формами участия граждан в его осуществлении путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления. Однако парадокс заключается в том, что вопреки вышеуказанным положениям нормативных актов и прямой ориентации законодательных и правоприменительных органов на преимущественную реализацию местного самоуправления именно в формах прямой демократии и непосредственного участия граждан в реализации местного самоуправления действующее федеральное законодательство и сложившаяся правоприменительная практика отдают приоритет опосредованным формам демократии в осуществлении местного самоуправления, уменьшая роль и предназначение форм решающего участия граждан в решении вопросов местного значения, а также непосредственного формирования ими органов местного самоуправления как непосредственных институтов муниципальной представительной демократии. Такой подход привел к тому, что граждане РФ и в целом население муниципальных образований как непосредственные субъекты местного самоуправления на современном этапе выполняют, преимущественно, совещательную, консультативную функцию в реализации вопросов местного самоуправления на территориях муниципальных образований. Из перечисленных в гл. 5 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее Закон № 131-ФЗ)
-
3. Местное самоуправление за уже более 30 лет существования новейшей российской государственности не стало устойчивым, долговременным и самое главное, понятным и населению, и власти конституционноправовым институтом. При этом сама категория «местное самоуправление» и его институты вызывают массовый интерес не только в правовой науке, но и в других гуманитарных отраслях человеческой жизнедеятельности. Местное самоуправление и его проявления стали предметом философских [13], социологических [6], экономических [11] и иных направлений научных исследований. Такая же ситуация произошла и с исследуемой нами категорией «муниципальное сообщество».
Другим примером упоминания местного сообщества в практике конституционного правосудия является Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке отзыва депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей А. Г. Злобина и Ю. А. Хнаева». В данном решении отмечено, что «понимание местного самоуправления как признаваемой и гарантируемой Конституцией Российской Федерации территориальной самоорганизации населения, призванной обеспечивать ему самостоятельное и под свою ответственность решение вопросов местного значения, обусловливает необходимость учета природы муниципальной власти как власти местного сообщества». Пикантность ситуации создает тот факт, что всего лишь через два абзаца в этом же решении Конституционный
Суд РФ подчеркивает, что «субъектом права на самостоятельное осуществление муниципальной власти - непосредственно и через органы местного самоуправления - выступает население муниципального образования (ч. 2 ст. 3, ст. 12, ч. 2 ст. 130 Конституции Российской Федерации). Оно вправе защищать свои права и свободы, реализуемые на уровне местного самоуправления (ст. 133 Конституции Российской Федерации), в том числе путем воздействия в различных не противоречащих закону формах на выборных должностных лиц местного самоуправления». Как тут не вспомнить Оскара Уальда «Дорога к истине вымощена парадоксами. Чтобы постигнуть действительность, надо видеть, как она балансирует на канате» [15].
Еще одним примером упоминания категории «местное сообщество» является Постановление Конституционного Суда РФ от 26 июня 2014 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности положений части 18 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 4 статьи 10 и пункта 2 статьи 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 3 статьи 7 Закона Ивановской области «О муниципальных выборах» в связи с жалобой граждан А. В. Ерина и П. В. Лебедева». В данном решении Суд, оценивая институт досрочного прекращения полномочий депутатов представительного органа муниципального образования, отметил, что «произвольное сокращение срока полномочий представительного органа, наличие которого в свою очередь является условием периодичности выборов и непрерывности осуществления муниципальной власти, могло бы - в нарушение ст. 1 (ч. 1), ст. 3 (ч. 3), ст. 12, 32 (ч. 1 и 2), ст. 55 (ч. 3) и ст. 130 Конституции Российской Федерации - поставить под сомнение правомерно выраженную посредством состоявшихся муниципальных выборов волю местного сообщества как субъекта местного самоуправления». При этом, как и в ранее упомянутом нами решении, но в предыдущем абзаце мотивировочной части своего же решения Конституционный Суд РФ четко обозначил, что «местное самоуправление, признаваемое и гарантируемое в качестве одной из основ конституционного строя Российской Федерации, обеспечивает права гра- ждан, связанные с их участием в решении вопросов местного значения как непосредственно, так и через представительство в выборных и других органах местного самоуправления, а основанием легитимации местного самоуправления и осуществления возложенных на него в соответствии с Конституцией Российской Федерации полномочий в городских, сельских поселениях и на других территориях является воля населения этих территорий, выраженная непосредственно или через образованные им выборные (представительные) органы». После такого очевидного несоблюдения своего же установленного принципа правовой определенности так и хочется просить у уважаемого высшего органа конституционного правосудия: «Чья же воля реализуется путем муниципальных выборов? Местного сообщества или все-таки населения, как конституционно-обозначенного и легитимного субъекта местного самоуправления?».
В завершение весьма ограниченного обзора примеров о «деконструктивной» роли Конституционного Суда РФ во внедрении в правовое пространство правоотношений, связанных с местным самоуправлением, понятия «местное сообщество» нельзя, конечно же не упомянуть известное не только в муниципальном юридическом сообществе - Постановление Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и 3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы». В данном решении Суд отметил: «Органы местного самоуправления, будучи организационно-правовым выражением власти местного сообщества как первичного субъекта права на местное самоуправление, призваны обеспечивать в рамках полномочий, возложенных на местное самоуправление в соответствии с Конституцией Российской Федерации, реализацию воли населения городских, сельских поселений и других территорий, на которых оно осуществляется». И при этом в том же абзаце мотивировочной части решения говорится: «Местное самоуправление, по смыслу определяющих его конститу- ционно-правовой статус статей 3 (часть 2), 12, 32 (части 1 и 2) и ст. 130–133 Конституции Российской Федерации, выступает обязательной на всей территории Российской Федерации формой публично-территориальной самоорганизации населения, обеспечивающей участие граждан в самостоятельном и под свою ответственность решении населением непосредственно и через представительство в выборных и других органах местного самоуправления вопросов местного значения». Возникает очевидный вопрос – органы местного самоуправления формируются и выражают интересы «мифического местного сообщества» или все-таки формируются населением муниципального образования и предназначены для выражения воли именно населения?
Мы исходим из чрезвычайной значимости и высокой роли Конституционного Суда РФ в формировании единства правового пространства нашего государства, а также непосредственного участия Суда в подтверждении верховенства Конституции РФ на всей территории нашей страны, но, применительно к предмету темы нашего исследования, полагаем, что представленные примеры, а их число далеко не исчерпывается только упомянутыми ранее случаями, свидетельствуют о непосредственной роли Конституционного Суда РФ во внесении в правоприменительную практику конституционно-неопределенной категории «местное сообщество» с ее крайне противоречивым толкованием, что, несомненно, приводит к наличию неопределенной, а порой и дискуссионной практике использования данного понятия как властными институтами [5], так и отдельными исследователями [4; 12, с. 17] при реализации и толковании норм муниципального права, что уже привело к «дефектному» восприятию гражданами, органами публичной власти, отдельными должностными лицами другой важнейшей конституционно-правовой категории – «местное самоуправление» и его качественных конституционно-правовых характеристик. При этом не вызывает никаких сомнений, что правильность, корректность и уместность использования нормативно-установленных категорий является демонстрацией уровня развития правовых начал в государстве, правосознания в обществе и уважения к закону со стороны институтов власти.
форм реализации населением (гражданами) своего конституционного права на местное самоуправление к прямым формам прямой демократии в осуществлении гражданами местного самоуправления отнесены лишь местный референдум (ст. 22), муниципальные выборы (ст. 23), а также голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, фактически не работающие, и голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования (ст. 24). Все остальные формы, закрепленные в гл. 5 Закона № 131-ФЗ указывают лишь на участие граждан в местном самоуправлении, то есть не устанавливают определяющую роль населения муниципального образования в принимаемых решениях по вопросам местного значения в итоге. Что же в таких случаях делать? Как подтвердить и соотнести фактическую ситуацию в правоприменении с вышеупомянутыми положениями Конституции РФ и ранее действовавшими положениями Европейской хартии местного самоуправления? Нашли самый простой способ – население, конкретного гражданина заменили местным сообществом как неопределенной совокупностью массы людей, имеющих связь с территорией, как правило, в форме регистрации, готовых проявлять хотя бы периодически свою «общественную активность», либо находящихся в «служебной зависимости» от действующих на территории муниципального образования органов местного самоуправления – муниципальные служащие, работники муниципальных предприятий учреждений, их родственники, либо организации, и их представители, имеющие заинтересованность в получении финансирования или иных благ от муниципальных и государственных властей. Редкое явление, когда муниципальное сообщество ассоциируется с действительно активными представителями населения, имеющими авторитет и способными с помощью него убеждать, воздействовать на массы людей, не проявляющих активности и интереса к решению вопросов местного значения. Как следствие, институты участия населения в осуществлении местного самоуправления если и присутствуют в правоприменении, то во многом формально реализуются, и, совершенно очевидно, они не свидетельствуют о наличии активного интереса граждан к самостоятельному или с помощью органов местного самоуправления решению вопросов местного значения. В свою очередь органы государственной власти, органы местного самоуправления, вместо того чтобы действительно «развернуть работу» по восстановлению доверия к институтам непосредственного участия населения в осуществлении вопросов местного значения, предпочитают ограничиваться формальным отношением и исполнением процедур участия населения в местном самоуправлении либо путем применения пиар-технологий, иных решений и приемов «формализуют» и без того не имеющие своего интереса формы участия населения в осуществлении местного самоуправления, выдавая их за активность местного сообщества. Например, 3 декабря 2024 г. прошли публичные слушания по проекту решения Екатеринбургской городской Думы «О бюджете муниципального образования «город Екатеринбург» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Согласно протоколу публичных слушаний, за представленный проект муниципально-правового акта проголосовало 290, против – 1, воздержались – 1. И это при численности населения муниципалитета почти 1,5 млн человек!
В силу особенностей развития любого гуманитарного направления научных исследований, наличия собственного предмета, метода и иных качественных отличительных характеристик, даже в условиях развития межотраслевых и междисциплинарных связей категория «местное сообщество», оставаясь «филологически» единым словосочетанием, содержательно понимается в разных отраслях и научных исследованиях по-разному. В каче- стве доказательств приведем лишь несколько примеров.
Т. И. Магокон дает трактовку «местного (или муниципального) сообщества» как неформальных, самодеятельных, обретших социальную структуру автономных объединений граждан, создаваемых с целью совместного самостоятельного решения насущных жизненных вопросов. Автор диссертации полагает, что «подход к муниципальным сообществам как к основе и структурообразующему элементу системы самоуправления, а не как к ее второстепенному и побочному компоненту, позволяет восстановить понимание самоуправления как основной формы реализации народовластия в буквальном смысле слова и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного населения» [8].
К. Л. Жигарев определяет местное сообщество как «основную ячейку организации общества, так как оно объединяет такие первичные структурные единицы, как личность, семья, трудовые ассоциации. Между ними возникают многочисленные общественные связи: экономические, социальные, духовнокультурные и политические (властные и правовые)» [3, с. 78].
С. А. Мельник предлагает местное сообщество понимать как совокупность граждан на соответствующей территории, объединенных в соответствующие группы: предпринимательские и финансовые круги; местные отделения политических партий; профессиональные союзы; группы, выражающие интересы отдельных социальных слоев населения - ветеранов, женщин, молодежи, инвалидов и т.п.; организации, выражающие интересы территориальных сообществ - органы территориального общественного самоуправления, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, дачные товарищества и т.п.; национальные общины, религиозные организации; благотворительные организации; организации по интересам - экологические, по борьбе с наркоманией, защите животного и растительного мира, культурные, спортивные, туристические и т.п. [10].
Наконец еще один пример, доказывающий наличие различных отраслевых подходов в гуманитарных исследованиях относительно местных сообществ. И. Ю. Матвеевой предлагается разделять категории «местное сообще- ство» и «население» какого-либо населенного пункта. Отмечается, что «важным отличием местного сообщества является организованность и наличие устойчивых связей (в том числе коммуникационных) в сложной структуре и иерархии организованных сообществ, в связи с чем в инфраструктуре местного сообщества выделяют несколько уровней: добровольные объединения людей по различным признакам и основаниям; местные некоммерческие организации и объединения, позиционирующие различные интересы общественности (профессиональные, экологические, образовательные, здоровьесберегающие и т.д.); общественные организации «второго» уровня при правительственных структурах (коалиции, ассоциации, союзы, учебно-методические центры, общественные палаты и советы и т.д.), посредством которых местное сообщество изъявляет свои позиции, доводит до властных структур инициативы и волеизъявле-ния»[9].
Таким образом, в условиях отсутствия в действующем российском законодательстве нормативного закрепления понятия «местного сообщества», крайне неоднозначной конституционно-правовой практики толкования, сложившегося правоприменения в области местного самоуправления, уровня разнонаправленного развития доктринальных научных исследований на пороге очередных реформ в сфере местного самоуправления мы полагаем крайне важным привлечь внимание всех властных и общественных институтов, научное сообщество к использованию в сфере местного самоуправления, его правового регулирования исключительно нормативно-установленных категорий, что в будущем должно стать повсеместной практикой в реализации так и не реализованной до настоящего времени единой стратегии государственной политики в области местного самоуправления. Единообразное формирование и закрепление на уровне нормативных актов, строго определенной, ясной и понятной терминологии, отражающей дух и смысл положений Конституции РФ, существенным образом будут способствовать перспективам развития российского государства и его территорий, а также поступательному развитию «доктрины» обязательного, непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. Без внимательного отношения к нормативно-установленным категориям в об- ласти местного самоуправления и выработки государственной стратегии применения данных категорий в практике органов публичной власти мы рискуем еще больше отдалить местное самоуправление как конституционноправовой институт и правовую категорию от ее действительного смысла, заменив конституционно-правовые основы местного самоуправления «псевдокатегориями», внешне напоминающими институт местного самоуправления, но существенно отличающимися от него по содержанию и сущности.