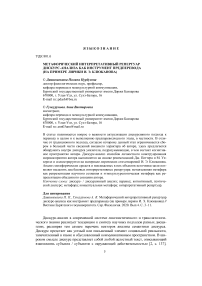Метафорический интерпретативный репертуар дискурс-анализа как инструмент предперевода (на примере лирики И. Э. Клюканова)
Автор: Дашинимаева Полина Пурбуевна, Гунсурунова Анна Викторовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье поднимается вопрос о важности актуализации дискурсивного подхода к переводу в целом и к выполнению предпереводческого этапа, в частности. В отличие от традиционного подхода, согласно которому данный этап ограничивается сбором в большей части сведений внешнего характера об авторе, здесь предлагается обнаружить внутри дискурса указатели, подразумевающие, в чем состоит когнитивное пространство автора. Дискурс-анализ способов личностного конструирования мировосприятия автора выполняется на основе рекомендаций Дж. Поттера и М. Уезерелл и иллюстрируется на материале лирических стихотворений И. Э. Клюканова. Анализ метафорических средств и вовлекаемых в них объектов источника-цели позволяет выделить два базовых интерпретативных репертуара: метаязыковая метафора как репрезентация научного сознания и этнокультурологическая метафора как репрезентация обыденного сознания автора.
Дискурс- / дискурсивный анализ, перевод, когнитивный, поэтический дискурс, метафора, концептуальная метафора, интерпретативный репертуар
Короткий адрес: https://sciup.org/148317749
IDR: 148317749 | УДК: 801.6
Текст научной статьи Метафорический интерпретативный репертуар дискурс-анализа как инструмент предперевода (на примере лирики И. Э. Клюканова)
Дашинимаева П. П., Гунсурунова А. В. Метафорический интерпретативный репертуар дискурс-анализа как инструмент предперевода (на примере лирики И. Э. Клюканова) // Вестник Бурятского госуниверситета. Сер. Филология. 2020. Вып 4. С. 3–11.
Дискурс-анализ в современной системе лингвистического и транслатологи-ческого знания реализует тенденцию к синтезу научных подходов разных дисциплин, расширяя тем самым перечень векторов анализа семантики дискурса. Дискурс предстает как устный или письменный элемент социальной реальности, запечатленный в языке и обусловленный коммуникативным пространством. В широком смысле дискурс представляет собой любой целостный текст, описывающий взаимосвязь субъекта / субъектов с окружающей действительностью [2, с. 137].
Более детальную трактовку дает Ю. Н. Караулов и предлагает рассматривать дискурс как продукт речевой коммуникации в его вербальном, невербальном и паралингвистическом выражении с учетом экстралингвистических факторов, содействующих успешной реализации общения [8, с. 8]. А. А. Кибрик и В. А. Плунгян рассматривают термин с двух позиций: с позиции процесса коммуникативной ситуации, в котором взаимодействуют «сознания коммуникантов»; и с позиции результата данного взаимодействия, т. е. текста [9, с. 200].
Обобщая рассмотренные определения дискурса и трактовки Н. Ф. Алефи-ренко, В. Г. Борботько, В. В. Красных и Т. Ван Дейка [1; 3; 14; 4;], можно выделить следующие характеристики дискурс-анализа:
-
• дискурс-анализ рассматривает дискурс как совокупность процесса и результата речемыслительного взаимодействия участников коммуникации;
-
• дискурс-анализ затрагивает социальную природу дискурса и его событийный характер, отраженный как в лингвистическом, так и в экстралингвисти-ческом плане;
-
• дискурс-анализ рассматривает комплексную лингвистическую структуру, выходящую за рамки обычного текста и обусловленную прагматическими, социокультурными, психологическими, паралингвистическими и другими факторами, раскрытие которых и обеспечивает относительно стройное понимание контекста и причин, обусловливающих импликации текста.
Логично, что современный дискурс-анализ, предлагающий большое разнообразие интерпретативных технологий, может быть эффективно использован в процессе подготовки к переводу. Прежде чем рассмотреть один из вариантов аппликации, напомним, что перевод можно определить, по крайней мере, на трех уровнях обобщения сообразно его основным характеристикам:
-
• перевод рассматривается как деятельность и как продукт этой деятельности;
-
• перевод как продукт - это трансляция текста с языка оригинала на целевой язык, в результате которой в целевом языке создается новый текст, равноценный оригиналу;
-
• перевод как деятельность - это процесс посредничества между двумя контактирующими культурами [5; 13].
Отметим, что данные предметные грани можно отразить в одном определении, как показано у А. Д. Швейцера: «Перевод - это однонаправленный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуникации, при котором на основе подвергнутого “переводческому” анализу первичного текста создается метатекст, передающий коммуникативный эффект первичного текста <…> он представляет собой объяснение, истолкование, интерпретацию» [16, с. 3-4].
Итак, другими словами, перевод является продуктом истолкования и интерпретации, т. е. анализа. Тогда в каком соотношении находятся задача переводчика и дискурс-анализа? Попробуем установить между ними взаимосвязь. Интерпретируемый дискурс подвергается анализу со стороны переводчика с целью осмысления исходного содержания текста и последующей передачи его в другую систему языка и культуры [15, с. 292-307] (курсив здесь и далее наш. -П. Д., А. Г.). В процессе посредничества этап осмысления представляет собой самую трудную задачу, поскольку понимание внешнего предметного содержания основывается на понимании внутренней картины мира автора. В этом ракурсе именно дискурс-анализ предстает как инструмент декодирования интенций отправителя сообщения с учетом синхронизации всех лингвистических и экстра-лингвистических факторов коммуникативного акта, тем самым выступая как основной этап переводческого процесса.
В рамках данной работы выявляются дискурсивные параметры лирического текста как объекта предпереводческого анализа. Для сфокусирования внимания на определенных характеристиках жанра, сравним два определения:
-
• Поэтический дискурс как особый тип языкового общения, охватывает не только глубинное эмоциональное состояние автора, выраженное посредством эстетически маркированных языковых знаков, но также и концептуальную структуру его сознания [7, с. 326].
-
• Поэтический текст является уникальным когнитивным механизмом художественного восприятия , которое определяется новыми веяниями творчества, и «теми знаниями и представлениями , которые каждый художник слова приобретает в процессе “врастания в цивилизацию”» [12, с. 17].
Если первое определение выделяет тезис о том, что через эстетику слова поэт делится своим концептуальным миропониманием, обрамленным в эмоциональную оболочку, то второе подчеркивает другой модус: сам лирический текст является свидетельством способа восприятия автором внешнего мира, соответственно, контента его когнитивного пространства. Принимая априорно первую трактовку, мы берем в качестве исходного пункта нашей работы вторую, вскрывая при этом другую сторону когнитивного механизма, скрытого за завесами языкового конструирования, а именно – природу и пути становления явления, называемого «естественнjv семиозисjv».
В переводоведении не предлагается некий универсальный алгоритм проведения передпереводческого дискурсивного анализа. Предложенные рекомендации варьируются в зависимости от подхода и цели дискурс-анализа, тем не менее, можно проследить определенную схожесть в процедуре его проведения. К основным этапам дискурс-анализа можно отнести – сбор внешних сведений (информация об источнике, авторе, временной принадлежности дискурса, и т. п.); работа с текстом (декодирование тематики, определение наиболее релевантных исследовательскому вопросу фрагментов, анализ языковой среды и пр.) и декодирование семантического пространства дискурса (развертывание общей системы значений).
Применение идей дискурсологии в переводческом анализе важно с точки зрения эффективности выполнения основной задачи переводчика – достичь максимально возможного уровня внешней и внутренней аутентичности (ср. эквивалентности и адекватности) – задачи, которая решается при условии примирения систем, норм и узусов языков-участников, с одной стороны, и «правильным» вскрытием потенциала смысловых и концептуально-смысловых составляющих оригинала – с другой. Вкупе обе части соотносятся, и в итоге идентифицируется дискурсивное мышление говорящего как социальной личности [6, с. 281].
Конечно, достижение внутренней аутентичности в переводе с означенных позиций требует последовательного и постоянного развития аналитического мышления, что может быть достигнуто при многократном применении тех или иных алгоритмов анализа. Рассмотрим аппликативность дискурс-анализа, предложенного Дж. Поттером и М. Уезерелл [19]. Данный анализ нацелен на исследование форматирования восприятия и когнитивного опыта, посредством которых дискурс существует в рамках языковых практик. Данный подход охватывает характеристику группы людей в целом, т. е. то, как проявляется «дискурс культурной самобытности» определенного социума. Тем не менее, как нам представляется, метод применим и к анализу личностного дискурса как средства са-мо-объективации сознания, т. е. репрезентации когнитивного восприятия мира автором.
Подобный подход позволяет поставить, по меньшей мере, следующие задачи дискурс-анализа: 1) проследить пути и результаты конструирования автором реальности в виде разновидностей образов; обнаружить оказываемое через дискурс воздействие, в связи с чем выявить способы и средства воздействия [19].
До момента интерпретации дискурс в аспекте личности носит полифонический характер, поскольку язык, в том числе лирики, подразумевает вариативность понимания социального мира. Лишь вступая в интерпретативное пространство и выявляя компоненты когнитивного механизма восприятия (мышление, память, установки автора), полифоническое множество толкований превращается в понимание уникальности воздействия автором на аудиторию слушателей / читателей. Под репертуаром интерпретации Дж. Поттер и М. Уезе-релл понимают «периодически используемые системы терминов, которые характеризуют и оценивают действия, события и другие явления. Репертуар <…> составляется из ограниченного спектра терминов, использующихся только в стилистических и грамматических конструкциях. Часто репертуар формируется вокруг специфических метафор или фигур речи ..» [19].
Материалом данного исследования послужили поэтические произведения доктора филологических наук, семиотика и философа И. Э. Клюканова. Ему принадлежит множество фундаментальных научных трудов, посвященных в частности проблемам коммуникации. Однако для нас является значимой сама личность автора в изучении того, как в когнитивном пространстве поэта -ученого совмещаются и/или со-концептуализируются поэтическое и научное начала, и какие средства конструирования лирического дискурса, лежащие в основе картины мира автора, могут вероятнее всего оказывать воздействие на читателей.
В целом предлагаемые к анализу стихотворения из сборников «Резюме» (2015) и «Приставная лесенка» (2020) являются своего рода жизнеописанием в философско-лирическом формате. Изучив используемые И. Э. Клюкановым фигуры речи, мы рассмотрели способы метафоризации в качестве системы категоризации и концептуализации внешнего мира.
Метафора в обычном понимании представляет собой явление, наблюдаемое в употреблении слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений и т. п., для характеризации объекта другого класса, аналогичного первому в каком -либо отношении [2, с. 5–32]. Исходя из данного постулата, можно предположить, что в процессе метафоризации говорящий сопоставляет предметно-логическое значение некоего объекта с означиваемым контекстуальным содержанием.
Напомним, что метафоризация базируется на взаимодействии когнитивной структуры «источника» и «цели», совместно конструирующих «метафорическую проекцию» (metaphorical mapping) или «когнитивное отображение» (cognitive mapping) [17]. Подобная проекция может проявляться в концептуальных (когнитивных) пластах метафор отдельного индивида, поскольку когнитивный механизм восприятия уникален [18], что не отрицает социальный характер коммуникативных интенций дискурса.
Дискурсивная семиосфера И. Э. Клюканова из 243 поэтических текстов формируется особыми ассоциативно-деривационными связями, отражающимися, в том числе, в выборе определенных метафор. На основе анализа объектов, вовлекаемых в метафоры в качестве источника-цели, можно выделить два базовых интерпретативных репертуара, которые несомненно актуализируются в процессе дискурсотворения: метаязыковая метафора как репрезентация научного сознания автора и этнокультурологическая метафора как репрезентация обыденного сознания автора.
Когнитивный механизм первого репертуара заключается в формировании метафорической проекции окружающего мира посредством языковых образов. Так, единицы метаязыка, указывающие на сильные ассоциативные звенья, обусловленные научным – философско-лингвистическим – сознанием автора, сами становятся метафорами. Рассмотрим следующий пример:
Судьба похожа на стихотворенье:
Сначала – паузы, сначала – ударенья,
И замысел, как школьник, близорук,
А фразы появляются не вдруг <…>
Но остаются все же островки:
Здесь – пара строчек, там – лишь полстроки:
Пока что не написанные строки [11, c. 7].
В данном отрывке мы видим, как автор проводит параллель между судьбой и стихотвореньем. Каждый элемент создаваемого поэтического произведения ассоциируется с жизненным циклом, этапом: взлеты и падения, повороты жизни – неожиданные, возможно, не всегда продуманные, и логически естественные, повседневность, роскошь встречи со словом и фразой, прожитый и еще непрожитый опыт как изложенное и еще не изложенное на бумаге. Любопытен способ метафоризации суффикса «- ник »:
Или вот: произнесешь «грибники»,
Просто так- безо всякого смысла;
И сразу: деревья, берег реки,
Деревня, деревянные коромысла; <…>
А впрочем, вся жизнь лишь суффикс «ник» [11, c. 8].
Думается, в этом случае метафора иллюстрирует действие модели неосознанного ассоциативного реагирования в момент восприятия произнесенного знака, хоть и маленького. Так, суффикс, попадая в качестве стимула в когнитивное пространство автора, активизирует ассоциативные образы в концептуальной картине мира. Для исследователей языка-речи-мышления, подобного рода метафоры представляются редким и прямым (интроспективным) доказательством динамики протекания ментальных процессов в голове субъекта.
Проявления профессионально-ориентированного наполнения когнитивного пространства можно проследить не только в использовании определенной лексики (гекзаметр, такт, Логос, золотое сечение, метафизика, curriculum vitae, allegro molto vivace), но и отсылок к великим мыслителям прошлого: Фуко, Бродский, Тютчев, Плиний, Гомер, Сократ, Шуман, Шекспир, Монтень, Набоков, Басё и другим.
Представим, как автор создает при этом свой образ мыслителя посредством ассоциативно-метафорического представления, отсылающего читателей к именам предшественников:
Платон мне друг и Аристотель друг! <…>
И я – Платон, а также – Аристотель;
Ну а один из них всенепременно,
А может, сразу оба – это я [10, c. 18].
Данная метафора также может означать, что гносеологическая деятельность мыслящего индивида порой дает результат, подтверждающий тождество идей и рассуждений, которые когда-то изрекали великие философы слова и слога.
Второй интерпретативный репертуар формирует образ действительности через концепты объектов и явлений, лично пережитых автором, а также через идиоматические единицы определенного культурного социума. К первой группе можно отнести такие метафоры, как луна, море, вино, потайной глазок, лебяжий пух и другие. Данные метафоры построены также на внешней схожести характеристик источника и цели – означающего и означаемого, соответственно. Выбор источников может быть культурно маркирован:
И вот уже не спрыгнуть с бегущего тигра,
Как говорят, насколько я помню в Китае. <…>
Но судьба, как зверь, по следу, по звуку крадется,
И леопарду уже не сменить свои пятна [11, c. 18].
Сразу оговорим, что данный пример иллюстрирует синтезирование обоих репертуаров. Тройная метафора (третья представлена в строке 3) основывается на концептуально-семантической эквивалентности двух пословиц из китайского и английского языков: 騎虎難下 (букв. сидя на тигре, трудно с него слезть ) – затруднительная ситуация, выход из которой крайне осложнен; a leopard can't change its spots (букв. леопард не может сменить свои пятна ) – фразеологизм относительно человека, чью натуру невозможно исправить. Метафорическая слепка пословиц в данном дискурсе в итоге реализует, как нам представляется, два значения: 1) непосредственное значение самих пословиц, т. е. логическая неизменность событий и бытия в целом, некая предопределенность в жизни; 2) когнитивно-направленная отсылка к тому, что объективная действительность уникально категоризируется в культурно-обусловленных образах, формируемых вследствие обработки и переработки воспринятого и переживаемого.
Этнокультурологический спектр метафор в стихотворениях И. Э. Клюканова включает не только идиоматические высказывания ( слышу звон да не знаю, где он; поменять шило на мыло; наводить тень на плетень и др.), но также прямые или переосмысленные цитаты из русского фольклора и произведений отечественных поэтов. Рассмотрим следующий пример:
Мороз без cолнца – день ужасный.
Еще ты дремлешь, друг несчастный;
Оно и правильно – давай
Дремли и дальше, не вставай! <…>
А помнишь, как давны-давно
Янтарный свет все лился, лился,
И каждый день все длился, длился
И прекращаться не хотел [10, c. 98].
Конечно, этот красивый дискурс мог родиться только у поэта, принявшего и понявшего русскую культуру – слог великого Пушкина. В данном отрывке прослеживается корреляция между традиционным донесением знаменитого пушкинского стихотворения «Зимнее» утро и личным переживанием закона смены погоды и настроения, сезонов и периодов жизни, прошлого и будущего. При этом автор привносит свой фаталистический смысл в произведение, воспринимая жизнь за окном в условиях настоящей реальности сквозь призму осознаваемого «здесь и сейчас».
Таким образом, восприятие действительности происходит уникально, на что указывают способы ее конструирования в выделенных репертуарах. Вне сомнения, метафоры двух порядков склеивают своим неповторимым образом физические и ментальные события там, где они оказываются, поэтому производят воздействие на реципиента. При этом создается впечатление, что первая группа концептуальных метафор носит более универсальный характер, поскольку говорит о когнитивном механизме восприятия вещей и явлений в целом и о дальнейшем соотнесении воспринятого с языковым знаком. В таком свете метафоры могут найти некое соответствие, или отражение, в концептуальной картине мира читателя с таким же исследовательским взглядом, например, у филолога, переводчика, философа, писателя, или человека, любящего креатив в речетворении. Интерпретативные репертуары второй группы интересны для переводчика прежде всего с точки зрения поиска и нахождения культурно-значимых донесений и смыслов.
Интерпретативные репертуары позволяют определить природу готовых когнитивных схем, которые представитель определенной культуры использует в разных контекстах при решении конкретных задач. В рамках изучаемого дискурса перечисленные схемы выражены в концептуальных метафорах, превалирующее количество которых определяет способы формирования картины мира автора именно в аспекте научного сознания. Доминирование научной составляющей картины мира И. Э. Клюканова говорит, на наш взляд, о его самоидентификации в социокультурном пространстве: будучи лириком автор не может не быть в равной мере ученым, потому что его картина мира сформирована через призму филологического и философского способов познания и мышления. Это заключение может быть исходным ориентиром в процессе перевода его лирических стихотворений.
Список литературы Метафорический интерпретативный репертуар дискурс-анализа как инструмент предперевода (на примере лирики И. Э. Клюканова)
- Алефиренко Н. Ф. Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры. М.: Academia, 2002. 391 с.
- Арутюнова Н. Д. Дискурс / Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 136–137.
- Борботько В. Г. Принципы формирования дискурса. От психолингвистики к лингвосинергетике : монография. 3-е изд., испр. М.: КомКнига, 2006. 286 с.
- Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Прогресс, 1989. 310 с.
- Гарбовский Н. К. Теория перевода: учебник. М.: Изд-во МГУ, 2004. 544 с.
- Дашинимаева П. П. Теория перевода. Психолингвистический подход: учебник. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2017. С. 278–286.
- Карасик В. И. Языковые ключи. М.: Гнозис, 2009. 406 с.
- Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 261 с.
- Кибрик А. А., Плунгян В. А. Функционализм и дискурсивно-ориентированные исследования // Фундаментальные направления современной американской лингвистики. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2002. 480 с.
- Клюканов И. Э. Приставная лесенка: сб. стихотворений. М.: Время, 2015. 126 с.
- Клюканов И. Э. Резюме: сб. стихотворений. М.: Время, 2020. 160 с.
- Ковалев П. А. Поэтический дискурс русского постмодернизма: дис. ... д-ра фи- лол. наук. Орел, 2010. 548 с.
- Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учебник. М.: Высшая школа, 1990. 253 с.
- Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. 375 с.
- Наугольных А. Ю., Серова Т. С. Информационно направленный анализ и выявление денотатов как способ осмысления и понимания информации исходного текста в полном письменном переводе // Язык и культура. Томск: НИ ТГУ, 2018. № 41. С. 292–307.
- Швейцер А. Д. Теория перевода. Статус. Проблемы. Аспекты. М.: Наука, 1988. 214 с.
- Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. London, Chicago: The university of Chicago press, 2003. 252 p.
- Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books, 1999. 624 р.
- Potter J., Wetherell M. Discourse and Social Psychology: Beyond Attitudes and Behavior. London: Sage Publications, 1987. 216 c.