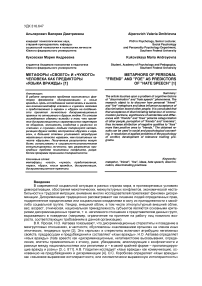Метафоры "своего" и "чужого" человека как предикторы "языка вражды"
Автор: Альперович В.Д., Куковская М.А.
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 8, 2016 года.
Бесплатный доступ
В работе затронута проблема когнитивных факторов феноменов «дискриминация» и «язык вражды». Цель исследования заключалась в выявлении влияния метафор «своего» и «чужого» человека и представлений о «враге» и «друге» на особенности принятия личностью дискриминационных практик по отношению к другим людям. По итогам исследования сделаны выводы о том, что принятие дискриминационных характеристик партнеров по общению, значимость сходства и различия со «своими» и «чужими» людьми поляризуют категоризацию других людей, восприятие «друзей» и «врагов», в большей степени усиливают атрибуцию негативных качеств «врагам», чем позитивных качеств «друзьям». Полученные результаты могут быть использованы в социально-психологическом консультировании личности, при разрешении прикладных проблем психологии конфликта, разработке программ тренингов толерантности.
Метафоры, "свой", "чужой", представления, "враг", "друг", "язык вражды", дискриминация, дискриминационные практики
Короткий адрес: https://sciup.org/14939905
IDR: 14939905 | УДК: 316.647
Текст научной статьи Метафоры "своего" и "чужого" человека как предикторы "языка вражды"
В современной социальной ситуации в разных странах мира, в противоречивых условиях демократизации, обострения межэтнических, межкультурных конфликтов, экономической нестабильности и трудовой миграции, внимание многих исследователей привлекает феномен дискриминации. Дискриминацию традиционно рассматривают как лишение людей определенных прав, подкрепленное юридическими или социальными ожиданиями в силу их принадлежности к какой-либо социальной группе. Гендер, внешний облик, в том числе этнокультурный внешний облик, вес, возраст, этническая, национальная принадлежность субъектов являются основными критериями дискриминационных практик, т. е. негативного отношения к представителям данных групп, выражаемого в поведении (например, ограничение на принятие на работу лиц пожилого возраста, соответствующих требованиям в данной организации).
[5, с. 201]. «Язык вражды» основан на фиксации различий субъекта с «чужими» и «врагами», на бинарных оппозициях «мы – они», «друг – враг, «свой – чужой». Он может функционировать в нарративной и метафорической формах.
Метафоры являются одним из способов осмысления, интерпретации социальных явлений, образов «я» и других людей. Категоризация окружающих, в частности на «своих» и «чужих», «врагов» и «друзей», влияет на стратегии взаимодействия с ними. В социальной психологии изучены представления о «враге» и «друге» и их взаимосвязи с системой отношений личности [14]. Мы понимаем представления личности как когнитивно-эмоциональные образования, включающие характеристики и функции ее партнеров по общению. Несмотря на то что метафорическая природа социальных представлений уже выявлена, недостаточно изучены взаимосвязи метафор и представлений личности о других людях. Показано, что социальные представления о «враге»/«друге» влияют на отношение к партнерам по общению, однако недостаточно разработаны взаимосвязи этих представлений с дискриминационными практиками. Изучается метафорический «язык вражды», основанный на различии образов «свои»/«чужие», но почти не анализируются метафоры «своих» и «чужих» людей в связи с феноменами «дискриминация» и «язык вражды».
Программа и методы исследования
Проблемой нашего исследования выступают когнитивные предикторы феноменов «дискриминация» и «язык вражды», выраженные в представлениях личности о «враге», их метафорическая и нарративная основа. Цель исследования заключается в том, чтобы выявить влияние метафор «своего» и «чужого» человека и представлений о «враге» и «друге» на особенности принятия личностью дискриминационных практик по отношению к другим людям. Предметом исследования выступают метафоры «своего» и «чужого» человека, «врага» и «друга», уровень выраженности принятия дискриминационных практик по отношению к другим людям и социальнопсихологические характеристики представлений о «враге» и «друге».
Гипотезы исследования:
-
1. Метафоры «своего» и «чужого» человека могут влиять на особенности принятия личностью дискриминационных практик по отношению к другим людям в повседневном межличностном общении.
-
2. Метафоры «своего» и «чужого» человека и социально-психологические характеристики представлений о «враге» и «друге» могут различаться у лиц с разным уровнем выраженности принятия дискриминационных практик по отношению к другим людям.
-
3. Особенности принятия дискриминационных характеристик «врага» и «друга» могут быть связаны с метафорами различных типов и различными характеристиками «врага» и «друга».
-
4. Особенности принятия метафор сходства и различия со «своими» и «чужими» людьми могут быть связаны с различными характеристиками «врага» и «друга».
Применены следующие методы: классификация метафор, анализ характеристик представлений, методы математической статистики (квартилирование, множественный регрессионный анализ, H-критерий Краскела – Уоллеса, U-критерий Манна – Уитни).
Использованы следующие методики: 1) авторская методика «Метафоры “своих” и “чужих” людей» (Альперович В.Д., 2016); 2) модифицированная анкета Д.Н. Тулиновой «Идентификация Другого в качестве Врага и Друга» (Д.Н. Тулинова, 2005); 3) авторская методика «Диагностика принятия дискриминационных практик в повседневном межличностном общении» (Альперович В.Д., 2016).
Эмпирическим объектом пилотажного исследования стали 107 человек (17 мужчин, 90 женщин) на этапе ранней взрослости в возрасте 20–35 лет (студенты Южного федерального университета города Ростова-на-Дону, сотрудники различных предприятий города Ростова-на-Дону). Был использован стандартный программный пакет для статистической обработки данных IBM SPSS Statistics 20.0.
Методика «Метафоры “своих” и “чужих” людей» разработана нами на основе метода «Незаконченные предложения». Она включает 18 незаконченных предложений. Респондентам предлагается указать метафоры «своих» и «чужих» людей, «врага» и «друга». Полученные метафоры классифицируются по группам (представлены ниже).
Разработанная нами методика «Диагностика принятия дискриминационных практик в повседневном межличностном общении» включает 16 ситуаций, в которых проявляется враждебное, дискриминационное поведение по критериям «гендер», «этническая принадлежность», «вес», «возраст». Респондентам предлагается оценить степень их согласия с каждой ситуацией по 5-балльной шкале от «не согласен» до «полностью согласен».
Анкета Д.Н. Тулиновой «Идентификация Другого в качестве Врага и Друга» включает 33 характеристики «друга» и 33 характеристики «врага». Мы предложили респондентам принять или отвергнуть характеристики «врага» и «друга» как всегда характерные/не характерные для «друга» и «врага». Были введены характеристики, в которых отмечена принадлежность «врага» и «друга» к этническим, социокультурным и религиозным группам, к которым принадлежит/не принадлежит сам субъект. Принятие и отвержение этих характеристик, определяющих критерии выбора реальных «друзей» и «врагов», показывают особенности принятия дискриминационного поведения по отношению к представителям данных групп.
Результаты исследования
На первом этапе исследования мы составили классификатор метафор. Все метафорические и неметафорические ответы респондентов были разделены нами вслед за Д.С. Скнаревым на следующие группы [15]: антропоморфные метафоры : позитивные («родственники», «семья», «близкие люди»), негативные («черная мафия», «предатель», «сектант», «террорист») и нейтральные («прохожий», «одногруппники», «соседи»); метафоры-атрибуты : позитивные («люди, которым доверяю», «весельчаки», «теплые», «нужные»), негативные («злые», «агрессивные», «обманщики», «бездельники», «пьяница») и нейтральные («дышат», «умеют разговаривать», «те, о которых не знаю», «малознакомые», «неизвестные», «посторонние»); метафоры сходства («родственные души», «похожие на меня», «из того же теста»); метафоры различия («не похож на меня», «те, кто говорит на другом языке», «иностранцы»); метафоры абстрактные : позитивные («добро», «счастье») и негативные («зло», «боль»); метафоры - прецедентные имена (в том числе положительные и отрицательные сказочные и реальные персонажи): позитивные («Мишка Винни-Пух»), негативные («Троянский конь») и амбивалентные («люди, похожие на героев Достоевского», «люди, похожие на богему XIX в.»); зооморфные метафоры : позитивные («пушистые, добрые зверюшки», «преданные собаки», «добрые кошки»), негативные («непредсказуемые тигры», «злые собаки»), нейтральные и амбивалентные («медведи», «птицы», «бобры», «муравьи»); артефактные метафоры : позитивные («теплый плед», «цветные карандаши», «мягкое одеяло», «спасательный круг»), негативные («колючка», «иголки», «наждак», «навоз»), нейтральные и амбивалентные («книги», «элементарные частицы с разными зарядами», «загадка», «монеты»); природоморфные метафоры : позитивные («лучи солнца», «столбы света», «свежие травы», «цветы в доме»), негативные («грозовое небо», «ледяной ветер», «тучи»), нейтральные и амбивалентные («тени», «камни», «далекая планета»); метафоры организма («часть меня», «надежное, твердое плечо»); «магические» метафоры («ангел», «заботливый волшебник»); метафоры качества и значимости («образец общения»).
С помощью классификатора определялись виды метафор, названных каждым респондентом. Далее для каждого респондента был рассчитан коэффициент принятия дискриминационных практик по отношению к другим людям по следующей формуле: М = сумма баллов по каждой ситуации ^ общее количество ситуаций. Мы провели квартилирование всех коэффициентов принятия дискриминационных практик и разделили выборку респондентов на четыре группы, различающиеся уровнем принятия данных практик: группа 1 - респонденты с низким уровнем принятия дискриминационных практик (0 < М < 1,5), 2 - со средним уровнем принятия дискриминационных практик (1,5 < М < 1,875), 3 - со средним, ближе к высокому уровнем принятия дискриминационных практик (1,875 < М < 2,25), 4 - с высоким уровнем принятия дискриминационных практик (2,25 < М).
Для того чтобы определить, влияют ли метафоры «своих» и «чужих» людей и характеристики «врага» и «друга» на особенности принятия участниками исследования дискриминационных практик по отношению к другим людям, был проведен множественный регрессионный анализ этих переменных. Его результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Результаты множественного регрессионного анализа метафор «своих» и «чужих» людей, характеристик «врага» и «друга» и уровня выраженности принятия участниками исследования дискриминационных практик по отношению к другим людям
|
Коэффициент множественной корреляции(R) |
Коэффициент множественной детерминации (R-квадрат) |
Скорректированный коэффициент множественной детерминации (R-квадрат) |
F-критерий Фишера |
Уровень значимости |
|
0,953 |
0,909 |
0,600 |
2,943 |
0,002 |
В регрессионной модели 60 % изменений значений уровня принятия респондентами дискриминационных практик обусловлены влиянием их метафор «своих» и «чужих» людей и характеристик «врага» и «друга» с высоким уровнем значимости (0,002). Наибольшее влияние оказывают характеристики «врага» и «друга» и метафоры «своего» и «чужого» человека, «врага» и «друга», коэффициенты которых в регрессионной модели приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Характеристики «врага» и «друга» и метафоры «своего» и «чужого» человека, оказывающие наибольшее влияние на уровень принятия дискриминационных практик
|
Переменные |
Стандартизованные коэффициенты Бета |
Уровень значимости |
|
Человек, который Вас поддерживает, на кого Вы можете опереться в трудную минуту |
0,612 |
0,001 |
|
Человек, с которым у Вас общие точки зрения |
0,451 |
0,002 |
|
Человек, который старше Вас по возрасту |
0,772 |
0,003 |
|
Человек, с которым у Вас общие интересы |
0,712 |
0,001 |
|
Человек, который не любит общаться с Вами |
0,831 |
0,002 |
|
Человек, с которым Вы не любите общаться |
0,564 |
0,002 |
|
Человек, которому Вы неприятны |
0,938 |
0,002 |
|
Человек, которому Вы завидуете |
1,787 |
0,005 |
|
Человек, от которого исходит опасность |
0,468 |
0,002 |
|
Человек, которого Вы чувствуете «чужим», «иным» |
0,469 |
0,005 |
|
Человек, который Вам несимпатичен |
0,364 |
0,005 |
|
«Магические» метафоры «своего» человека и «друга» |
0,456 |
0,005 |
|
Антропоморфные негативные метафоры «чужого» человека и «врага» |
0,447 |
0,002 |
|
Метафоры различия |
0,215 |
0,003 |
Для категоризации участниками исследования партнеров по общению в качестве «друзей» и «врагов» значимы эмоциональное, когнитивное и ценностное единство с «друзьями», их позитивные качества, принадлежность «врагов» к другим социальным группам, что усиливает атрибуцию им различий с субъектом, их негативные качества. Далее мы сравнили метафоры и характеристики «врага» и «друга» у респондентов с разным уровнем принятия дискриминационных практик по критерию Краскела – Уоллеса. Полученные результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Различия метафор «своего» и «чужого» человека и характеристик «врага» и «друга» у респондентов с разным уровнем принятия дискриминационных практик
|
Метафоры «своего» и «чужого» человека, характеристики «врага» и «друга» |
i 25 x x 5 s m 5 z о.
|
s ц 5 о x x ° x ° x ° x S E 0 E 4 — C ™ Ф л , x H S x 0 X Ф S -ф X S ^ E O x h 0 ^Ц a. О C 0- |
s , 5 25 x 0 5 Я 3 к § x 3 = £ t S x 0 ° as g 0. |
sb Ф § tn 2 >£ CO |
|
Человек, с которым Вы искренни и откровенны |
68,06 |
50,12 |
47,25 |
0,005 |
|
Человек, который искренен и откровенен с Вами |
56,15 |
59,58 |
38,56 |
0,003 |
|
Человек, не принадлежащий к Вашей социокультурной группе |
53,48 |
51,50 |
60,42 |
0,005 |
|
Человек, не принадлежащий к Вашей религиозной группе |
51,98 |
50,96 |
63,38 |
0,001 |
|
Человек, обладающий более низким социальным положением и статусом, чем Вы |
52,48 |
51,46 |
61,65 |
0,006 |
|
Природоморфные позитивные метафоры «своего» человека и «друга» |
67,70 |
47,46 |
53,83 |
0,003 |
|
Артефактные позитивные метафоры «чужого» человека и «врага» |
58,44 |
52,50 |
52,50 |
0,011 |
|
Метафоры качества и значимости «чужого» человека и «врага» |
52,00 |
52,96 |
58,69 |
0,035 |
|
Метафоры негативной роли «чужого» человека и «врага» |
44,50 |
60,57 |
49,35 |
0,025 |
Чем ниже уровень принятия дискриминационных практик, тем больше субъекты доверяют «своим» людям и «друзьям», приписывают им позитивные свойства, тем меньше фиксируют различия с «чужими» людьми и «врагами», их принадлежность к иным группам, их негативные свойства, тем менее склонны употреблять метафоры качества и значимости «чужих» людей и «вра- гов», т. е. гиперболизировать их роль в жизни. Чем выше уровень принятия субъектами дискриминационных практик, тем зооморфные, артефактные и природоморфные метафоры «своих» людей и «друга» позитивнее, а метафоры «чужих» людей и «врага» негативнее.
Далее мы разделили респондентов на две группы: принимающие характеристики, в которых фиксирована принадлежность «врага» и «друга» к этнической, социокультурной, религиозной группе, к которой принадлежит/не принадлежит субъект, и не принимающие данные характеристики. Мы сравнили уровень принятия респондентами группы 1 и группы 2 дискриминационных практик по отношению к представителям других этнокультурных групп по U-критерию Манна – Уитни. Установлены различия (на уровне тенденции) между двумя группами. У респондентов группы 1 уровень принятия дискриминационных практик выше (60,85), чем у респондентов группы 2 (48,84) (p-уровень значимости 0,046). Различия (на уровне тенденции) метафор «своего» и «чужого» человека у респондентов данных групп приведены в таблице 4.
Таблица 4 – Различия метафор «своего» и «чужого» человека у респондентов, принимающих и отвергающих дискриминационные характеристики «врага» и «друга»
|
Метафоры «своего» и «чужого» человека, характеристики «врага» и «друга» |
Респонденты, принимающие дискриминационные характеристики «врага» и «друга», средний ранг |
Респонденты, отвергающие дискриминационные характеристики «врага» и «друга», средний ранг |
Уровень значимости |
|
Метафоры-атрибуты (нейтральные и амбивалентные) «друга» |
51,50 |
55,89 |
0,048 |
|
Метафоры – прецедентные имена (амбивалентные) «друга» |
52,00 |
55,51 |
0,078 |
|
Зооморфные метафоры (негативные) «чужого» человека и «врага» |
60,10 |
49,40 |
0,026 |
Чем меньше субъекты принимают дискриминационные характеристики «врага» и «друга», тем более позитивны их образы «своих» людей и «друзей», отраженные в позитивных метафорах-атрибутах и метафорах – прецедентных именах. Чем больше они принимают эти характеристики, тем больше они употребляют зооморфные негативные метафоры «чужого» человека и «врага». Это свидетельствует об их предубеждениях по отношению к партнерам по общению в статусе «врагов», гиперболизации их негативных свойств. Далее мы сравнили метафоры и характеристики «врага» и «друга» у респондентов, называющих и не называющих метафоры сходства и различия с «врагом» и «другом», по U-критерию Манна – Уитни. Результаты приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Различия метафор «своего» и «чужого» человека, «врага» и «друга» и характеристик «друга» у респондентов, фиксирующих и не фиксирующих сходства и различия с «врагом» и «другом»
|
Метафоры «своего» и «чужого» человека, характеристики «врага» и «друга» |
Респонденты, называющие метафоры сходства и метафоры различия, средний ранг |
Респонденты, не называющие метафоры сходства и метафоры различия, средний ранг |
Уровень значимости |
|
Человек, которому Вы преданны |
59,80 |
48,91 |
0,024 |
|
Метафоры позитивной роли «своего» человека и «друга» |
51,83 |
36,24 |
0,002 |
|
Зооморфные позитивные метафоры «своего» человека и «друга» |
48,56 |
58,77 |
0,026 |
|
Метафоры позитивной роли «чужого» человека и «врага» |
47,99 |
41,17 |
0,024 |
|
Метафоры негативной роли «чужого» человека и «врага» |
49,31 |
39,47 |
0,035 |
|
Артефактные амбивалентные метафоры «чужого» человека и «врага» |
47,73 |
41,50 |
0,015 |
|
Метафоры – негативные атрибуты «чужого» человека и «врага» |
59,19 |
49,45 |
0,029 |
Значимость для субъектов их сходства и различия со «своими» и «чужими» людьми усиливает атрибуцию «врагам» негативных характеристик, амбивалентной роли в жизни, позитивную оценку роли «своих» людей и «друзей» в жизни. Чем более актуальна для субъекта категоризация окружающих как «своих» и «чужих» людей, тем более значимыми партнерами по общению являются «враги» и «друзья».
Выводы и заключение
Результаты исследования в рамках данной выборки свидетельствуют в пользу выдвинутых гипотез. Метафоры «своего» и «чужого» человека и характеристики «врага» и «друга» влияют на уровень принятия личностью дискриминационных практик по отношению к другим людям. Метафоры «своего» и «чужого» человека и социально-психологические характеристики представлений о «враге» и «друге» различаются у лиц с разным уровнем принятия дискриминационных практик по отношению к другим людям. Особенности принятия дискриминационных характеристик «врага» и «друга» и принятия метафор сходства и различия со «своими» и «чужими» связаны с метафорами различных типов и различными характеристиками «врага» и «друга». Построена эмпирическая модель метафор «своих» и «чужих» людей как одного из когнитивных предикторов дискриминации в связи с принятием повседневных дискриминационных практик. Принятие дискриминационных характеристик партнеров по общению, значимость сходства и различия со «своими» и «чужими» людьми поляризуют категоризацию других людей, восприятие друзей и врагов, в большей степени усиливают атрибуцию негативных качеств врагам, чем позитивных качеств друзьям.
Ссылки и примечания:
-
1. Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК-5294.2016.6, тема «Метафоры “своего” и “чужого” как предиктор “языка вражды” и дискриминации» (внутренний номер 213.01-10/2016-10п).
-
2. Автаева Н.О. Язык вражды в современных СМИ: гендерный аспект // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 4 (2). С. 811–813 ; Ярская В.Н. Язык мой – враг мой: расистский дискурс в российском обществе // Социологические исследования. 2012. № 6. С. 46–53.
-
3. Автаева Н.О. Указ. соч. С. 811.
-
4. Гладилин А.В. «Язык вражды» как коммуникация [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проблем : электрон. науч. журн. 2012. № 11 (19). URL: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/11/gladilin.pdf (дата обращения: 23.08.2016).
-
5. Коробкова О.С. Маркеры языка вражды в номинациях этнической принадлежности: социолингвистический аспект // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 111. С. 200–205.
-
6. Скнарев Д.С. Метафора как средство создания образа в рекламном дискурсе // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-7. С. 1550–1555.
-
7. Аванесян М.О. Психологические механизмы понимания и создания метафоры : автореф. дис. … канд. психол. наук. СПб., 2013. 22 с. ; Якунин А.П. Исследование метафор как форм объективации смысловой сферы в представлениях подростков // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2013. № 161. С. 256–267 ; Inkson K. Protean and boundaryless careers as metaphors // Journal of Vocational Behavior. 2006. Vol. 69, issue 1. August. P. 48–63 ; Metaphors for retirement: Unshackled from schedules / L.D. Sargent, C.D. Bataille, H.C. Vough, M.D. Lee // Ibid. 2011. Vol. 42, issue 3. P. 225–230.
-
8. Бочавер А.А. Метафора как способ внутренней репрезентации жизненного пути человека : дис. … канд. психол. наук. М., 2010. 220 с.
-
9. Inkson K. Op. cit. ; Metaphors for retirement …
-
10. Вачков И.В. Возможности метафоры в сказкотерапевтической работе со взрослыми // Клиническая и специальная психология. 2015. Т. 4, № 1 (13). С. 75–88 ; Липская Т.А. Метафора как средство изучения школьных страхов детей младшего школьного возраста : автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 2013. 28 с. ; Черный Е.В. Техника метафорического кроссмоделирования в психотерапии и психологическом консультировании // Будущее клинической психологии – 2014 : сб. ст. Пермь, 2014. С. 128–133 ; Embodied metaphor and the «true» self: Priming entity expansion and protection influences intrinsic self-expressions in self-perceptions and interpersonal behavior / M.J. Landau, M. Vess, J. Arndt, Z.K. Rothschild, D. Sullivan, R.A. Atchley // Journal of Experimental Social Psychology. 2011. Vol. 47, issue 1. January. P. 79–87.
-
11. Indurkhya B. Emergent representations, interaction theory and the cognitive force of metaphor // New Ideas in Psychology. 2006. Vol. 24, issue 2. August. P. 133–162 ; Inkson K. Op. cit.
-
12. Скнарев Д.С. Указ. соч.
-
13. Керимов Р.Д. Концептуализация социальной реальности ФРГ этологической метафорой // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2013. № 6 (81). С. 97–101 ; Миньяр-Белоручева А.П. Особенности функционирования внешнеполитических метафор // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2014. Т. 1, № 2. С. 34–41 ; Эргашев А.А. Отражение общественных и политических процессов в США в военных метафорах Барака Обамы // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 393. С. 48–54.
-
14. Знакoв В.В. Образ врага как психологическое основание понимания мусульманских террористoв россиянами // Вопросы психологии. 2012. № 2. С. 23–35 ; Лабунская В.А. Образ врага в межличностном общении // Социальная психология и общество. 2013. № 3. С. 52–64 ; Тулинова Д.Н. Представления о Враге и Друге в связи с отношением к жизни на различных этапах : дис. … канд. психoл. наук. Ростов н/Д., 2005. 288 с. ; Hess U., Cossette M., Hareli Sh. I and My Friends are Good People: The Perception of Incivility by Self, Friends and Strangers // Europe’s Journal of Psychology. 2016. Vol. 12 (1). P. 99–114.
-
15. Скнарев Д.С. Указ. соч.
Список литературы Метафоры "своего" и "чужого" человека как предикторы "языка вражды"
- Исследование выполнено при финансовой поддержке Г ранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК-5294.2016.6, тема «Метафоры “своего” и “чужого” как предиктор “языка вражды” и дискриминации» (внутренний номер 213.01 -10/2016-10п).
- Автаева Н.О. Язык вражды в современных СМИ: гендерный аспект//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 4 (2). С. 811-813
- Ярская В.Н. Язык мой -враг мой: расистский дискурс в российском обществе//Социологические исследования. 2012. № 6. С. 46-53
- Автаева Н.О. Язык вражды в современных СМИ: гендерный аспект//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2010. № 4 (2). С. 811.
- Гладилин А.В. «Язык вражды» как коммуникация //Современные исследования социальных проблем: электрон. науч. журн. 2012. № 11 (19). URL: http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues/2012/11/gladilin.pdf (дата обращения: 23.08.2016).
- Коробкова О.С. Маркеры языка вражды в номинациях этнической принадлежности: социолингвистический аспект//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 111. С. 200-205.
- Скнарев Д.С. Метафора как средство создания образа в рекламном дискурсе//Фундаментальные исследования. 2015. № 2-7. С. 1550-1555.
- Аванесян М.О. Психологические механизмы понимания и создания метафоры: автореф. дис.. канд. психол. наук. СПб., 2013. 22 с.
- Якунин А.П. Исследование метафор как форм объективации смысловой сферы в представлениях подростков//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2013. № 161. С. 256-267
- Inkson K. Protean and boundaryless careers as metaphors//Journal of Vocational Behavior. 2006. Vol. 69, issue 1. August. P. 48-63
- Metaphors for retirement: Unshackled from schedules/L.D. Sargent, C.D. Bataille, H.C. Vough, M.D. Lee//Ibid. 2011. Vol. 42, issue 3. P. 225-230
- Бочавер А.А. Метафора как способ внутренней репрезентации жизненного пути человека: дис.. канд. психол. наук. М., 2010. 220 с.
- Inkson K. Op. cit.; Metaphors for retirement..
- Вачков И.В. Возможности метафоры в сказкотерапевтической работе со взрослыми//Клиническая и специальная психология. 2015. Т. 4, № 1 (13). С. 75-88
- Липская Т.А. Метафора как средство изучения школьных страхов детей младшего школьного возраста: автореф. дис.... канд. психол. наук. М., 2013. 28 с
- Черный Е.В. Техника метафорического кроссмоделирования в психотерапии и психологическом консультировании//Будущее клинической психологии -2014: сб. ст. Пермь, 2014. С. 128-133
- Embodied metaphor and the «true» self: Priming entity expansion and protection influences intrinsic self-expressions in self-perceptions and interpersonal behavior/M.J. Landau, M. Vess, J. Arndt, Z.K. Rothschild, D. Sullivan, R.A. Atchley//Journal of Experimental Social Psychology. 2011. Vol. 47, issue 1. January. P. 79-87
- Indurkhya B. Emergent representations, interaction theory and the cognitive force of metaphor//New Ideas in Psychology. 2006. Vol. 24, issue 2. August. P. 133-162; Inkson K. Op. cit.
- Скнарев Д.С. Указ. соч.
- Керимов Р.Д. Концептуализация социальной реальности ФРГ этологической метафорой//Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2013. № 6 (81). С. 97-101
- Миньяр-Белоручева А.П. Особенности функционирования внешнеполитических метафор//Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2014. Т. 1, № 2. С. 34-41
- Эргашев А.А. Отражение общественных и политических процессов в СШАввоенных метафорах Барака Обамы//Вестник Томского государственного университета. 2015. № 393. С. 48-54
- Знаков В.В. Образ врага как психологическое основание понимания мусульманских террористов россиянами//Вопросы психологии. 2012. № 2. С. 23-35
- Лабунская В.А. Образ врага в межличностном общении//Социальная психология и общество. 2013. № 3. С. 52-64
- Тулинова Д.Н. Представления о Враге и Друге в связи с отношением к жизни на различных этапах: дис.... канд. психoл. наук. Ростов н/Д., 2005. 288 с
- Hess U., Cossette M., Hareli Sh. I and My Friends are Good People: The Perception of Incivility by Self, Friends and Strangers//Europe's Journal of Psychology. 2016. Vol. 12 (1). P. 99-114